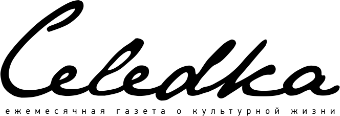"У культуры нет никакой отдельной территории"

Основатель издательства Ad Marginem философ Александр Иванов –
о vip-коридорах, искусственных соловьях, умении жить скучно и почему молодые писатели говорят на языке зомби
В некоторых сетевых ресурсах указывается, что я закончил философский факультет МГУ, и все, естественно, думают, что это тот самый МГУ им. М. В. Ломоносова. На самом деле я учился в Минске и закончил там государственный университет.
★ ★ ★
У меня очень высок интерес к тому, что называется созерцанием. Я редко принимаю какую-то однозначную «точку» зрения в этом смысле. Не могу сказать, что я модернизатор, либерал или, наоборот, консерватор. Мне кажется, что этот обобщающий язык не совсем попадает в цель. В целом философия – довольно асоциальная практика, и я достаточно асоциальный человек. Наверное, как многие. Не то чтобы я агорафоб, просто не люблю постоянную коммуникацию. Мне скорее нравится делать что-то практическое, имеющее вещественно-материальный результат. Производство материальных предметов сейчас – очень важный, постепенно отмирающий навык, и хотя издательская практика тоже выглядит сегодня чем-то олдскульным, она рифмуется с набирающим силу интересом к ремеслу и ручному труду.
★ ★ ★
В 1990-е так называемый постмодернизм, который тогда входил в моду, соответствовал общекультурной и политической ситуации в стране, потому что постмодернизмом занимались не только профессиональные философы, но и все кому не лень: журналисты, арт-критики и даже политики. Они действовали в стратегии мультипликации, усложнения той территории, на которой работали, утверждали ее несводимость к какому-то одному центру. Это был такой бытовой, массовый постмодерн.
★ ★ ★
У меня есть небольшая библиотека. Но я не библиофил. Я все время читаю, слежу за новинками, но в основном это не художественная литература, а все, что касается широкого спектра современной культуры: социологии, антропологии, философии, теории искусства. Мне кажется полезным примерно раз в квартал перечитывать какой-то классический текст – просто для того чтобы почувствовать классическую форму. Например, «Энеиду» Вергилия – очень вдохновляющее чтение.
★ ★ ★
Издательство – это книги. Определенным образом структурированные книги, констелляция книг.
★ ★ ★
Ad Marginem делался абсолютно на коленке, без какого-то профессионального знания. Это незнание касалось и экономики, и финансовой стороны дела, и организации. Когда я только замышлял свое издательство, то нарисовал штатное расписание, кто там должен работать: корректор, редактор, дизайнер, зав. производством и т. д. И показал это философу Михаилу Ямпольскому, одному из инициаторов идеи «Ад Маргинем». Он сказал: нет, всех вычеркиваем, оставляем только тебя. Я говорю: «Как это?» – «Ну вот так, будешь один издатель. Больше никого не надо». И он оказался прав – начинать лучше именно так. Ты один – все делаешь сам. Я ходил в типографию, работал с печатниками, знакомился с дизайнерами, авторами, переводчиками. Помню, одной из первых книг была «Феноменология тела» Валерия Подороги, так я весь тираж (три тысячи экземпляров) разгружал в одиночку. Важно, что я, уже будучи формально академическим работником, философом, прошел весь этот процесс с нуля, как салага в армии поначалу туалеты и пряжки чистит.
★ ★ ★
В самом начале 1990-х книги были очень востребованы, сказался дефицит 1980-х, поэтому все хотели книг, при этом неважно каких – любых. Был у нас такой сборник, где едва ли не впервые по-русски был опубликован Жиль Делёз вместе с повестью Захер-Мазоха «Венера в мехах» и текстами Фрейда о мазохизме – мы издали ее тиражом в сто тысяч экземпляров. Это был самый крупный тираж Делёза в мире. И всё раскупили, осталось максимум тысяч пять. Причем продавалось-то на лотках. Представляете, Делёз стоял на лотках, рядом со всеми этими первыми порнороманами. Была настоящая подростковая стадия культуры, когда человек одновременно мог прикупить философский труд и изданный в газетном виде трэш.
★ ★ ★
Политика сегодня – это вопрос исполнительского, управленческого искусства и невероятно сложного политического, экономического, культурного менедж-мента. Выделить на этой территории традиционно левые и правые идеи можно, но безумно непросто. Это все равно что, например, ориентироваться в своей оценке человека не на произносимые им слова, а на его лицевую мимику. Можно читать по физиогномике смысл того, что человек собой представляет, но это гораздо сложнее, чем делать это, ориентируясь на его слова.
★ ★ ★
Я не жду конца Путина – это ложная проблема. Это не то имя, которое обозначает все процессы, происходящие в России. Это мультиплицированная фигура, его символическое тело разорвано на маленькие кусочки, атомы, молекулы, которые дисперсно распределены по политическому полю. Это просто имя, обозначающее огромное множество различных практик. «Путиным» можно обозначить ситуацию сложного современного экономического насилия. Приведу пример. Срочно нужно было поменять загранпаспорт, и в едином центре выдачи паспортов мне предложили это сделать за 17 тысяч рублей. Паспорт был нужен срочно – я согласился, и тут же моментально попал в «vip-коридор» с вежливыми молодыми людьми с повадками гостиничных портье. Очередей не было, мне за пять минут переписали все эти мои неправильно заполненные анкеты. Государственное пространство тут же стало бизнес-территорией. Вот эту ситуацию я могу назвать «ситуацией Путина», а не разгром Болотной площади. Мы даже не догадываемся, насколько более жестким является коридор, создаваемый материальным благосостоянием или его отсутствием: есть у тебя эти деньги – все будет о'кей; нет этих денег – свободен. Будешь торчать в очереди, получишь худшее обслуживание и т. д. Этот критерий наличия/отсутствия материальных средств очень жесткий и носит менеджерско-управленческий характер. В России очень мало социализма, у нас социальной риторикой заменяют реальный социализм, а политики, которые критикуют Путина за тиранию, вообще в гробу видали социальное поле. Рыжков, Пархоменко, Немцов – для них главная проблема в том, чтобы внутри этого путинского vip-коридора были другие люди. Не те люди, которые там сейчас, а другие. То есть саму ситуацию прочерчивания социального пространства vip-коридорами они менять не хотят.
★ ★ ★
В России люди стремятся быть при бюджете и как-то его распределять. Это не обязательно связано с прямым воровством, скорее с клановой структурой общества. То есть у тебя есть друзья, друзья друзей, родственники, люди, которых ты понимаешь, которые тебе близки, и ты хочешь, чтобы им было хорошо. Это твой клан, твоя большая семья. Несколько десятков человек – очень умных, хороших, и ты как бы хочешь взять этот бюджет не себе, а этим людям. Это очень патриархальная модель. Она необязательно связана с воровством условных начальников. Это как с большим террором. Либеральная мысль полагает, что Сталин был главным террористом, но это не совсем так. В терроре участвовали практически все: писали доносы, аплодировали во время процессов, даже расстреливали многих с удовольствием, работали в лагерях. Занимались бытовым и лингвистическим насилием ежедневно. Более того, Сталин сам был в каком-то смысле психологической жертвой этого террора. Есть несколько историй, как он, будучи разбуженным ночью 1941-го в своем кабинете, был испуган – думал, что его пришли арестовывать.
★ ★ ★
Москва консервативна. Технология управления здесь зачастую очень закостенелая, даже внутри департамента такого современного менеджера, как Капков, большая часть управленцев – очень старомодные люди, которые не понимают информационной технологии, роли интернета, быстрой обратной связи. Но главное, чего не понимают эти люди, так этого того, что у культуры нет никакой отдельной территории. Капков это понимает. Большая часть его окружения – нет. Очень часто слышишь, причем от кураторов или галеристов, что культура – это какой-то отдельный вид практики. Как если бы, например, в художественном музее или библиотеке была культура. А вот вышел оттуда – и здесь уже начинается политическая сфера, или сфера урбанизма, или, например, миграционные проблемы. Но это не так. Это не топография, а топология. Грубо говоря, это не трехмерный образ, а n-мерный. Поэтому у Капкова была идея получить должность вице-мэра Москвы и отвечать за культуру в плане одновременно и социальной политики. Это было бы очень классно, наверное. Он талантливый менеджер. Но ему не дали.
★ ★ ★
Революционизм Капкова и его адептов иногда полезен, а порой приводит к разочарованию. Оказывается, что пространство вычищено, все супер, искусственные соловьи поют. Причем когда в парке Горького включили искусственных соловьев, сразу прилетели настоящие. Так вот, кругом цветочки, клумбы, новые кафе, а счастья-то все равно нет. То есть капковская революция – буржуазная, а буржуазность – это скука. И даже не просто скука, а довольно сложное искусство жить скучно. Жить в мире, где все перемены происходят главным образом на уровне информационной ленты, Фейсбука, Твиттера, которые дают иллюзию «чего-то новенького». Буржуазная жизнь вне информационных потоков предполагает, что вы являетесь мастером исполнения повторяющихся скучных ритуалов повседневной жизни. Опять пошли к своему дантисту, поздоровались с киоскером, опять купили свежий багет. Завтра будет то же самое, но с маленькими изменениями. Собственно, жить в скуке – это такое искусство, которое вообще антропологически непривычно русскому.
★ ★ ★
Когда наш человек попадает в Европу, он ощущает практически счастье. Это ощущение, что до вас никому нет дела. На уровне координации улично-публичной жизни вы предоставлены сами себе, ведь многообразные виды административного и прочего насилия в Европе не столь очевидны. В Лондоне вас снимают десятки тысяч видеокамер, но если вы не зациклены на этом, то вы этого и не заметите. Зато мент к вам не подойдет.
★ ★ ★
В случае европейской терпимости очень важна бытовая семиотика, которая у нас в России почти не развита. Европеец, глядя на человека, довольно быстро может вычислить его социальный статус. У нас же в случаях, когда проявляется какая-то сложная структурированность чего-нибудь, часто ответом становится реакция, что называется, «от локтя». То есть вы видите какого-то человека, и он, например, черный. Огромный черный человек. Он – знаменитый куратор или арт-критик, а у вас на него реакция местная: какой-то негр на меня навалился. То же самое касается ошибок, связанных с более простой организацией семиотического поля. Например, видно, что человек богатый, тачка крутая, а он на самом деле живет в съемной квартире на окраине Москвы, просто у него вид такой. Или какой-нибудь чел в джинсах и тапочках на самом деле миллиардер, просто вот так одевается. Или думаешь, что перед тобой какой-то художник, а это просто фрик с придурью. А художник Джефф Кунс в своем дорогом костюме – вылитый менеджер корпорации.
★ ★ ★
Русские люди весьма дальнозорки, в отличие от остальных европейцев. То есть они ничего вблизи не видят. И это касается очень многих наших проблем. Настоящие события ведь маленькие. Информационная лента даже может не уловить их в свою сеть.
★ ★ ★
Интерес к России как к литературной стране возник во Франции в середине XIX века, в кружке братьев Гонкуров, куда попал Тургенев. У них в «Дневнике» он описан как абсолютный варвар из русских лесов, который сносно говорит на французском, хотя, естественно, не на том, на котором говорят настоящие парижане. Потом, конечно, интерес усилился, когда появились французские переводы Толстого и, главным образом, Достоевского. Русская литература начала играть по правилам европейского книжного и журнального рынка: у нее появились читатели и очень большой ресурс общественного внимания. И Гонкуры в 1880-е годы понимают, что словом «варвар» тут уже не отделаешься. Сегодня мне кажется, что литература, в принципе, не является важным компонентом культурного внимания, а для России это особо напряженно, потому что Россия все время мыслит себя как «Россию+». Ну, представьте, приезжает сюда какой-нибудь писатель типа Джулиана Барнса, Мишеля Уэльбека или Джонатана Франзена, и ему начинают задавать вопросы: что вы можете сказать об Обаме? какова судьба узников «Оккупай Уолл-стрит»? как вы понимаете ответственность США за войну в Ираке? Они не готовы отвечать на эти вопросы. Они не готовы отвечать один за Британию, другой за Францию, а третий за Америку. Они отвечают за свою территорию. Большой писатель заселяет мир своими персонажами, характерами, и он готов только за эту территорию отвечать.
★ ★ ★
Я считаю, что ничего такого выдающегося, в смысле интереса к России, сейчас не происходит, но и никакого падения, типа того, что «все русское кино в жопе, только Федя Бондарчук орел» – такого тоже нет.
★ ★ ★
Русская литература – необычная литература. Она все время совершает какой-то странный эксперимент, с ней все время связано ожидание какого-то пусть травматичного, но чуда. И это не очень комфортный опыт для западного читателя. Есть реакция, например, Лоуренса, автора «Любовника леди Чаттерлей», на появление переводов эссеистики Розанова, когда Лоуренс пишет: сколько уже можно читать этих русских? Сколько можно этой грязи, этого самокопания? Этого чудовищного психологического напора? Хочется уже нормального повествования, без истерик в духе Достоевского. Так вот я думаю, что русская литература более или менее сегодня «нормальная». Но «идеология» русской литературы остается однозначно морализаторской, эта идеология окончательно сформировывалась в советское время в виде некоей максимы: «русская литература должна учить нас чему-то». Празднование гибели Пушкина в 1937-м, превращение Маяковского в главного советского поэта – все это очень мощные идеологические процедуры, которые сделали русскую классику совершенно невыносимой для школьников. Фактически ее умертвили. И вот с этим уже мертвым, нагримированным телом русской литературы сегодня зачастую и приходится иметь дело молодым писателям. Они по инерции начинают говорить на этом языке зомби. Не на языке Толстого, Чехова и Достоевского, а на языке зомби, оживших великих мертвецов, языке, который, конечно, никуда не годится. Они начинают себя позиционировать как соль земли, в качестве инженеров человеческих душ. Это очень советская и очень инерционная стратегия писательского поведения, которая сейчас проявляется в ритуализированном интересе власти к литературе. Пример – встреча Путина с литературной общественностью. Он видит, что есть не очень адекватные институции, не только люди, но и целые литературные институции, которые говорят: мы гибнем, русская литература гибнет. А у менеджера-то ничего никогда не гибнет вообще, и главный менеджер Путин тут же реагирует: может быть, дать вам денег? «Да, да, дай нам денег, тогда мы выживем!» – хором отвечают ему зомби. Но зомби не нужны деньги, они нужны режиссеру блокбастеров (типа Константина Эрнста), который потом снимет фильм или поставит лазерное шоу о зомби. Этот момент связан с очень высоким распространением зомби-риторики, риторики смерти и странной жизни в мертвом состоянии. Это настоящий зомби-дискурс: умер, но потом как-то вроде бы ожил, начал двигаться и при этом жаловаться на то, что умер, и требовать денег, чтобы в этом постмортальном существовании как-то еще прожить, еще немного протянуть.
★ ★ ★
Важно понять, что литература как вещество особого рода трепета не находится на территории, условно говоря, какой-то двадцатки, которую принято считать главными беллетристами России и которых государство возит по международным ярмаркам, как цыгане возили дрессированных медведей. Оно, это вещество, встречается неожиданным образом и на других территориях. Например, великолепный недавно ушедший Григорий Дашевский – утонченнейший, невероятно точно чувствующий писатель. Таких немного, но литература – это ведь не вопрос социологии. Хватит и нескольких фигур, для того чтобы существование литературного вещества в России никуда не исчезло, не уменьшилось. Оно просто мигрирует в поэзию, мемуаристику, дневники. Мне кажется, что современная беллетристика довольно неинтересная, а кому-то она представляется прекрасной. Ну что же, я готов с этим смириться.
★ ★ ★
Для писателя очень важно, чтобы его имя можно было бы использовать с маленькой буквы. Пелевинщина, сорокинщина, достоевщина. Это важный момент. Что такое набоковщина, мы понимаем. Сделать что-то набоковским образом. То есть этим именем уже называется какое-то состояние, какой-то тип опыта, тип литературы.
★ ★ ★
Очень важный эпизод интереса к России со стороны Запада – поездка Рильке в Россию и его попытка писать стихи по-русски. Как-то ему был задан вопрос, с чем граничит Россия. И он ответил: Россия граничит с Богом. Довольно странный, но интересный ответ. С одной стороны, он вроде бы страшно комплиментарный. На самом деле, я думаю, Рильке имел в виду каноническую библейскую ситуацию встречи с Богом, которая довольно травматична. Как, например, может быть травматичной встреча с человеком, который при вас вдруг начинает ссать в лифте. В каком-то смысле это тоже встреча с Богом. Вы заходите в какое-то пространство и вдруг встречаетесь с тем, что этому пространству не свойственно и не присуще. Вы соприкасаетесь с абсолютной границей этого пространства – причем внутри него самого. Я думаю, что в любом случае в этом высказывании Рильке есть некое удивление перед тем, что граница с трансцендентным в России на вас может свалиться просто так и в самом неожиданном месте – практически везде.
★ ★ ★
Классика, если вы хотите получить самообразование, очень важна – как гамма для музыканта. Это античная литература, философия греческая, латинская поэзия. Это, конечно, Шекспир и немецкая классическая философия. Гуманитарное образование у нас довольно странное, и классические тексты, которые должны быть просто хлебом для гуманитария, здесь читаются очень невнятно и факультативно. Меня удивила, например, книжка, которую мы издали несколько лет назад – Nobrow американского журналиста Джона Сибрука. Там он в какой-то главе описывает свое образование, цитируя (без упоминания имени) идею Канта относительно того, что суждение вкуса обладает универсальной сообщаемостью. То есть если вы говорите, что вам что-то нравится, то условием этого суждения является ваше допущение и желание, чтобы это «нравится» было разделено максимальным количеством людей. В этом смысл суждения вкуса в отличие от научных утверждений. То есть в научном смысле вам не важно, чтобы ваше утверждение относительно структуры генома разделялось огромным количеством людей. А вот ваше суждение о том, что это прекрасное вино, например, или это отличное стихотворение – здесь желательно, чтобы максимальное количество людей с вами согласилось. Только тогда это суждение имеет смысл. И это, вслед за Кантом, говорит журналист Сибрук. У нас здесь есть искусствоведы, теоретики культуры, которые третью «Критику» Канта не знают. Ну, может, знают, что она есть, может быть, даже читали что-то из нее, но не понимают, что она является классической в том смысле, что она работает, создает пространство понимания. На ее основе потом можно читать Деррида, например. Это касается и всего остального. Понятно, что горациевские или вергилиевские образы очень классичны, точны и поэтичны. И на их основе формируется огромная литературная традиция. Но чтобы ее оживить, иногда полезно вспомнить, как это работает у Вергилия, как у него сделана метафора, как у него работает ассонанс, например. Это такие практические вещи, которые касаются и русской классики. Например, для меня было интересно перечитывание Лескова несколько лет назад. В связи с событиями на Болотной площади я прочел его первый роман «Некуда», где выведен образ «углекислых фей с Чистых прудов». Этот образ очень важен для понимания антропологии московского либерала – у Лескова это такие дамы, которые, как углекислота, растворяют все твердые формы и превращают их в жидкие и газообразные. Так вот, они до сих пор живут в районе Чистых прудов, я некоторых даже знаю лично. Классика в этом смысле очень полезна.
★ ★ ★
У Давида Юма есть отличная мысль: «Справедливость не наводит справок». Ты все время «наводишь справки» – сравниваешь себя с другими, тебе кажется, что мир несправедлив к тебе, но это ложная установка. Ты должен сравнивать себя только с самим собой, а мир понимать как сложнейшую систему «точек зрения», интересов, сил и смыслов. Тогда даже сама постановка вопроса о справедливости будет другой. Ты не будешь наводить справок, ты будешь просто совершенно по-другому мыслить.