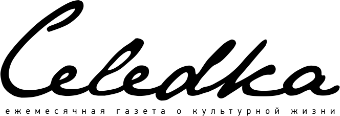"Где есть развитая культура как мощная сеть креативных индустрий, там хорошая атмосфера в городе"
 Писатель и телеведущий Александр Архангельский – о радостной среде обитания, газете как предмете роскоши, апелляции к совести и цене на культуру.
Писатель и телеведущий Александр Архангельский – о радостной среде обитания, газете как предмете роскоши, апелляции к совести и цене на культуру.
Каждый раз я прихожу довольно поздно туда, где меня никто не признает, с площадки, где уже признан. Я был академическим литературоведом, перешел в критику, из критики – в публицистику, из публицистики – на телевидение, из телевидения вернулся к книжкам. И каждый раз я слышу: «Что тебе здесь нужно? У тебя и так по соседству все хорошо». Но, знаете, дурак любит учить, а умный – учиться. Мне интересно делать то, чего я не умею. В Японии была традиция, когда литератор, уже достигший успеха, в середине пути брал псевдоним и заново завоевывал аудиторию. Если у него это получалось, значит, он все это время не шел по накатанной, это не было инерцией. Вот, считайте, что я все время беру псевдоним, хотя остаюсь тем же.
***
В работе модератора принцип простой: входя в аудиторию или студию, необходимо забыть, кто ты такой и что делаешь по жизни. Конкретно в данном случае я лишь посредник, и моя задача заключается в том, чтобы пришедшие разговаривать друг с другом напрямую сделали это наиболее полно и емко. В идеале я обязан стать прозрачным, и через меня должны протекать голоса этих людей. Конечно, при этом существуют рифы и барьеры, необходимо проявлять жесткость, чтобы собеседники умолкали, когда начинают говорить лишнее, разжижать свою мысль. Также важно руководствоваться правилом, которое касается больше телевидения: нельзя дать выступающим уйти в своей мысли слишком глубоко, потому что самые разные аудитории должны при просмотре-прослушивании находить что-то важное и понятное для себя.
***
Телевизионная картинка должна быть либо роскошной, либо грязненькой – она не может быть никакой, среднее не считается. Либо гламур, либо подвал.
***
Сегодня газета как мощный демократический институт, доносящий до широкой аудитории какие-то важные сведения и оценки, умирает. Средние, крупные издания закрываются, и прогноз Мердока: «Смерть бумажным газетам» – близок к исполнению. Я не читаю газеты как газеты: я ищу информацию, статьи определенных авторов, подбирая по своему интересу то, что считаю нужным. Мне приходится их читать только в двух случаях: на деловом завтраке в дорогом кафе либо в самолете, где я заперт, запаян в капсулу и послан в мир. Читаю ли я их там, для того чтобы что-то узнать? Нет. Это скорее эстетическое переживание, нежели информационное, предмет роскоши. Газета вернулась туда, откуда ушла: она пришла из дорогого кафе и вернулась туда же. Ту роль, которую она играла когда-то, сегодня исполняет поток информации в интернете, который мы подбираем по своему усмотрению. Интернет стал демократическим институтом со всеми издержками демократического института.
***
У меня простая жизненная позиция – я себе не судья. Всех срезов жизни я не знаю, хотя довольно плотно с ней соприкасаюсь, постоянно перемещаясь по стране. Стараюсь говорить со всеми, но не все вижу, конечно. Если тебе стала неинтересна окружающая жизнь – беги из профессии писателя. Альтернатива побегу? Есть путь пересахаренного интеллигентского автора типа Саши Соколова, у которого тонкая словесная вязь, совершенно нет чувства жизни, но есть чувство языка. Недавно, наоборот, с каким-то тонким чувством жизни, хотя вроде бы без малейшего интереса к современности, написал свой отличный роман «Лавр» Евгений Водолазкин.
***
Когда в начале «нулевых» я закончил заниматься критикой, то стал гораздо лучше относиться к литературе – теперь я не обязан дочитывать до конца непонравившееся. В литературном плане я вообще почти всеяден – из последнего десятилетия отметил бы и «Асан» Маканина, и «Санькю» Прилепина, и Майю Кучерскую, стихотворные фельетоны Быкова и его «Пастернака», раннего Шишкина. У меня нет отношений с писателем почти никогда, в современной литературе у меня отношения с книжкой. Мне нравится огромное количество книг независимо от того, нравится ли мне все то, что делал или будет делать написавший их писатель после. Это тоже, наверное, признак не совсем верного литературного позиционирования, когда надо любить своих и не любить чужих. Я же не могу сказать, кто для меня до конца чужой: если я не люблю позднего Пелевина, то из этого не следует, что «Омон Ра» мне перестал нравиться, да ничуть. Прошлое не меняется от будущего, в литературе, по крайней мере. Есть и другое: я могу признавать писателя, но у меня нет ни малейшего желания его читать. Вот есть Роман Сенчин. Он, несомненно, писатель, но буду ли я его читать? Если он будет писать так, как пишет, вряд ли. Есть Сорокин, я читал «Очередь», и это было замечательно, но каждая его последующая книга – это повторение хода, определенного в этом романе. Если вы берете какую-то готовую модель – социалистический рассказ или классический роман, западную драму или антиутопию и по ней работаете, то у вас в конце концов все распадется, детали полетят во все стороны и упадут либо в болото, либо в дерьмо и там утонут. Это совершенно не значит, что я не считаю Сорокина писателем, просто мой читательский опыт такой: для того чтобы я дочитал его до конца, он должен уйти с изъезженной колеи.
***
Есть писатель Михаил Шишкин, который не знает и даже не догадывается о том, как живет неинтеллигент в столице и тем более в провинции. При этом условный Минаев ни разу не является писателем, даже бездарным, но он с этой реальностью соприкасается и тяп-ляп делает свои никчемные, с точки зрения литературы, романы, заглядывая в такие вещи, которые полезно было бы знать условному Шишкину. В 1970-е годы было легче: точкой, ключевым классом, слоем, через который шла история, были либо интеллигенты, либо уничтоженные в 1930–1950-х крестьяне, поэтому и писали либо про интеллигентов, как Трифонов, либо про крестьян, как деревенщики – и все в литературе работало. Но это время закончилось.
***
При составлении учебника прежде всего учитываются стандарты с использованием неких принципов и имен, которые в рамках школьного курса должны быть распределены по годам. Нравятся вам эти стандарты, не нравятся – соблюдать их нужно: ученик, переходя из школы в школу, должен попадать в одну и ту же среду независимо от того, по какому учебнику его там учат. Но как комбинировать все это, сама подача – зависит, конечно, от автора. Учебники, за которые я отвечаю, отличаются не столько набором имен, сколько подходом – такой разговор с очевидцем. Есть старая-старая формула: «От маленького писателя к большому читателю». Если ученик сам не попробует что-то писать, он никогда не поймет, как писали другие. Как правило, он не станет большим писателем, но хотя бы почувствует, что такое литературное переживание, как слова составляются в стихи, рассказы, как взгляд художника высвечивает какие-то уголки реальности, как на один и тот же предмет смотрят разные люди. Литературоведческая составляющая также очень важна, но она инструментальна. На выходе ученик должен читать и анализировать текст, не анализируя его специально, на каком-то этапе у него должно получаться слышать разные голоса, видеть повороты сюжета, воспринимать, как один тип романа связан с другим.
***
Споры вокруг списка Путина из ста книг вернули интерес к самому существованию каких бы то ни было имен в литературе. С педагогической точки зрения, это абсурд – литература списками не измеряется. Можно весь год читать «Войну и мир» и не читать ничего больше – и все то же самое про жизнь и литературу узнать. Все эти идеи со списками пришли из Америки. Там в американских корпорациях существуют перечни книг, спектаклей и фильмов, которые члены этих корпораций должны посмотреть, прочитать, изучить, для того чтобы отличаться от членов других корпораций. Так, например, какой-нибудь гарвардец по определенным выученным цитатам легко узнает другого гарвардца. То же самое со списком из ста фильмов. Верните в школу предмет «Мировая художественная культура» и в его рамках изучайте современное и мировое кино – будет отлично. Нельзя одной рукой выдавливать мировую художественную культуру на обочину, а другой вводить список из ста фильмов. Тем более что учителей-киноведов в нашей стране нет и не будет.
***
Сколько стоит культура? Есть мировая рекомендация, которая почти нигде не соблюдается, но к ней стремятся все развитые страны – это 2% от ВВП. В России примерно 0,7%. Когда в разгар кризиса 2008 года совершенно не левый Саркози на 40% увеличил бюджет культурных институций, значит, он понимал, что делает. Здесь вопрос в другом. Просто говорить: «Дайте нам денег» – бесполезно, надо объяснить: зачем, сколько и почему именно вам. Культура должна стоить ровно столько, сколько нужно для создания институтов развития. Она сохраняется, только если развивается. Грубо говоря, когда мы требуем сохранения усадеб, нам нужно ответить на вопрос, а что современного в этих усадьбах будет происходить? Сразу становится ясно, как создаются рабочие места, возникает инфраструктура, как сегодня музейная усадьба начинает играть роль монастыря в Средние века, вокруг которого посад и люди, приобретающие работу. При условии, что там не просто сохраняется память, а производится современная культура. Где у вас актуальные художники на территории усадьбы, где музыканты, писатели, где детский сад, в который ходят дети и интеллигентов, и посадских рабочих? Где социальное творчество? Если ответ на этот вопрос есть, то – поддержка. Ведь надо понимать, что культура – это радостная среда обитания. Где есть развитая культура как мощная сеть креативных индустрий, там хорошая атмосфера в городе. Понятно, что музейщики страдают от непродуманных музейных ночей, потому что им не добавляют денег ни на сотрудников, ни на зачистку территории после веселых молодых толп, и совершенно понятно, что это нужно финансировать, ведь любой город, в котором проходит «Ночь музеев», – другой. Есть места, где этого нет и не будет, а там живет 90 миллионов наших с вами современников, я говорю про города-стотысячники. Туда не придет ни крупный книжный магазин, ни кинотеатр, там не построят мультиплекс, и концертного зала не будет, а ведь там живут такие же граждане, которые имеют право быть причастными к современности, а быть причастными можно только через культуру. Именно поэтому в таких городах должны строиться дворцы культуры нового типа – с мультиплексом, библиотекой, концертным залом, театральной и дискуссионной площадками. Культура сегодня – это и есть вход в современность.
***
Человек обыденный, «человек большинства» так устроен – он не хочет крупных перемен, если сам к ним не готов и не адаптирован. То есть люди, которые вышли на площади в прошлом году, неизбежно должны были натолкнуться на равнодушие и даже раздражение большинства современников, а не только власти. И потом от огорчения впасть в спячку. Осуждать их за это как минимум нехорошо. Мы просто должны понимать, что все равно меняться нам придется. И обществу, и политике, и экономике, и бытовому устройству. Другой вопрос – постепенно или обвально. С людьми, мне кажется, можно разговаривать, пытаясь призвать их к инновационным переменам через единственно понятную всем тему – через детей. Если мы объясним, что детям будет плохо, если мы чего-то не сделаем, и конкретно объясним, чем они расплатятся за отказ от участия, есть шанс, что нас все-таки услышат. С большинством жителей страны у нас просто нет общего языка, и мы даже не пробуем с ними разговаривать. Условная Болотная площадь привела к тому, что Путин выиграл первый тур на выборах, потому что значительная часть обывателей банально испугалась покушения на стабильность.
***
Если людей втягивать в реальность, не пугать завтрашним днем, а именно втягивать, то они сами поменяются. Попытаюсь объяснить на примере, который я знаю очень хорошо, – на примере библиотек. В конце 1990-х казалось, что дело швах, там работали тетеньки, вытесненные из большой жизни, получающие три копейки, потерявшиеся и не знающие, как устроен современный мир, не имеющие ничего общего с теми детьми и подростками, которые тогда еще захаживали в библиотеки. Сегодня я с ними разговариваю, и они совершенно обо всем в курсе, кроме действующей политики, связь с которой еще не установили. А что же случилось за эти 12 лет? Случилось то, что библиотечная система была поставлена перед выбором – дальше ей быть или умереть. Либо она впишется в какую-то другую эпоху, либо исчезнет. Когда эти тетеньки оказались перед жестким выбором, то стали быстренько бить лапками, осовремениваться и втянулись.
***
У нас нет общего консенсуса ни по одному вопросу, ни по отношению к истории – какая она все-таки? Тысячелетняя, семидесятилетняя или двадцатилетняя? Ни по месту религии в жизни, ни по позиции к Китаю, Америке, исламским государствам. Россия – страна отсутствующего консенсуса. Между богатыми и бедными, образованными и необразованными, зрителями большого телевидения и потребителями интернета – нет согласия.
***
Занять должность министра культуры? Не дай Бог. И случиться это может только в одном случае (я имею в виду сразу и предложение, и согласие): если все будет настолько плохо, что деваться будет некуда, и нужно будет ложиться на амбразуру. У меня совсем другая амбиция: хочется, чтобы в конце жизни на визитке было написано: «Александр Архангельский» – без указания каких-то должностей. Почему я надеюсь, что в моей жизни никогда не возникнет коллизия, становиться министром культуры или нет? Да потому что, среди прочего, в нашей стране все знают, как управлять культурой. Все: от оппозиции до верховной власти и от бомжа до олигарха. Все дают советы, и что бы ты ни сделал, все будет плохо. Сегодняшняя ситуация с министром культуры такова: это функция при высшей политической власти. Какой будет политическая власть, таким будет и министр культуры. Для Мединского было бы лучше, если бы он был в Думе председателем комитета по культуре, потому что с законодательными актами, выстраиванием политических равновесий, мне кажется, ему проще, чем с управлением отраслью. Та функция, которая отведена культуре в нашей стране, не предполагает никакого большого успеха. Швыдкой, которого многие считают лучшим министром культуры, с самого начала сформулировал: «Министр культуры – это смесь банкомата с тамадой». Максимум, что он может сделать, – выбить деньги на отрасль, помочь тем, помочь этим и не очень навредить. Например, больной вопрос с кино, так это не к Мединскому, государство само должно решиться «отпустить» его, освободить от идеологического пригляда. В «Арсенале» на выставке, посвященной Вальтеру Беньямину, использована замечательная цитата: «Цензура в кино несопоставимо выше, чем в театре». Про современность в кино говорить практически невозможно, тогда как на театральной площадке – пожалуйста. Отпустите идеологическую удавку с кино, и вам не придется решать коррупционные вопросы, потому что идеология и коррупция – это две вещи неразделимые.
***
Если говорить о пиратстве, то в мире положение такое и с музыкой, и с книгами: процентов двадцать утекает налево. Я против этого ничего не имею, это такие расходы на продвижение. Но когда ситуация в нашей стране с соотношением 10 к 90 (и 90 процентов – украденный пиратами контент) – вот это уже ненормально. Для того чтобы потребовать от сограждан перестать брать ворованное, нам нужно предпринять несколько шагов. Во-первых, нужно с ними поговорить и объяснить, почему нельзя брать чужое, до них должно дойти, что это чье-то. Во-вторых, нужно предельно облегчить доступ к легальным электронным ресурсам, которые обязаны быть удобны для скачивания в один клик, а не в десять, и быть приспособлены для разных форматов – от «таблеток» до ридеров и смартфонов. В-третьих, обеспечить неимущим доступ к бесплатной книге. Книга – это товар, но ведь это особого рода товар. И наконец, необходима апелляция к совести, порой она работает эффективнее, чем апелляция к закону. Вот, например, рынок дорогих товаров. Вы представляете себе хоть одного человека с деньгами, который купит дешевую поддельную сумку вместо настоящей? Причем это будет та же самая сумка из того же материала, сшитая по тем же лекалам, теми же китайскими рабочими на том же самом заводе? Никогда! Почему? Потому что неприятно. Апелляция к совести очень простая. Если ты можешь заплатить и берешь – значит, ты украл. А если не можешь заплатить, бери так. Есть идея подверстать закон о пиратах к закону о черных сайтах и увязать все это в одну цепочку, знаете, бывает состояние организма, когда нужно применять скальпель – что-то вырезать, зашивать, класть на койку, но любой хирург вам скажет: «Я вырежу, и за это время с организмом произойдет то-то и то-то» – и вот вы мне скажите: что за срок запрета вы собираетесь сделать такого, чтобы, когда этот срок закончится, запреты были бы не очень нужны? Если вы мне на этот вопрос не ответили, я говорю: нет, не надо. Есть методы работы, только все хотят бороться, потому что бороться всегда выгоднее.
***
В разных странах я вижу людей от 50 до 60, которые стареть не собираются. Это не страх Маяковского – «иду красивый двадцатидвухлетний», это что-то другое: никто не молодится, искусственных препаратов не использует. Сейчас мне пятьдесят. Нужно больше спать, меньше работать и есть, в отпуск уезжать минимум на три недели. Но ощущение жизни и физическое состояние – прежние. Я замечаю, что в мире вообще что-то происходит – длительность жизни растет, во Франции 15 тысяч столетних людей, и то, что у нас называется «сроком дожития», у них абсолютно обычное время, а от 50 до 100 – это полжизни. У моего поколения вот еще в чем фокус: мы вовремя поняли, что никакой пенсии не будет, и если наши родители испытывали иллюзию, что государство им что-то должно, то у меня позиция простая: мне ничего не должны – и я ничего не должен. Я людям должен, а государство… Ну, вот требует от меня 13% подоходного налога – пусть получит, а ничего больше с меня и не причитается.
***
У Пришвина есть гениальное выражение: «Надо найти хомут по шее». Найдите свой хомут по своей шее, если у вас большая шея, то найдите несколько хомутов – попробуйте разное, ничего не бойтесь. Только тот, кто готов проиграть, может что-то выиграть. Никогда ничего не сохраняйте – только развитие и готовность что-то потерять дают шанс сделать следующий шаг.