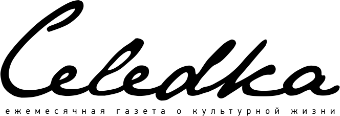"Полная грамматическая свобода во многом обесценивает литературу"
 В рамках проекта «Открытое интервью» доктор филологических наук, литературный критик Алексей Коровашко и писатель Роман Сенчин побеседовали о новом реализме, Литинституте, толстых журналах и гастрономических предпочтениях тувинцев. «Селедка» публикует большую часть разговора.
В рамках проекта «Открытое интервью» доктор филологических наук, литературный критик Алексей Коровашко и писатель Роман Сенчин побеседовали о новом реализме, Литинституте, толстых журналах и гастрономических предпочтениях тувинцев. «Селедка» публикует большую часть разговора.
Коровашко: – Я воспользуюсь случаем, чтобы вытянуть из Романа максимум информации, а в своих вопросах буду двигаться по биографической «канве». Позволю себе процитировать его новую книгу «Тува», которая на самом деле посвящена не столько современному положению дел в этой загадочной республике, сколько детству главного героя. Вот отрывок, в котором речь идет о его школьных пристрастиях и увлечениях: «Одно время я всерьез занимался историей (ранним Средневековьем, Гражданской войной в СССР, великими географическими открытиями), но просто изучать исторические книги мне было скучно, и я стал пытаться обобщать сведения из разных книг, записывая в хронологическом порядке разные факты об одном и том же событии в тетради. Но и это быстро надоедало, потребовались фигуры, которыми бы можно было связать события. И так как исторические фигуры чаще всего появлялись в документах эпизодически, я выдумывал судьбы героев – например, рыцаря, который прожил лет девяносто, участвовал во всех значимых событиях своего века, или простого солдата, чья фамилия раз мелькнула в каком-либо документе, которого я делал прошедшим все испытания Гражданской войны 1918–1922 годов…» И у меня такой вопрос – почему этот интерес к истории, который просыпается в старших классах средней школы, не получил закономерного продолжения? Ты заканчиваешь школу и из Кызыла переезжаешь в Ленинград, где поступаешь в строительное училище. Если не секрет, чем можно объяснить такой довольно странный кульбит человека, который вырос среди книг огромной отцовской библиотеки и вполне логично должен был подумать об историческом, филологическом или любом другом гуманитарном факультете?
Сенчин: – Я действительно готовился к тому, чтобы поступить в какой-то большой вуз, много занимался в этнографической школе, писал работы, но у меня оставалось чувство, что настоящей истории или нет, или она настолько субъективная, ненастоящая в своих деталях, что заниматься ею не то что сложно, а практически бессмысленно. Не так давно я услышал из уст Александра Андреевича Проханова фразу, очень мне запомнившуюся: «Истории нет, есть только вариации прошлого» – каждый человек, каждая фигура может прошлое под себя подставить, нивелировать. Поэтому, когда десятый класс закончился, чтобы успокоить родителей, я попытался поступить в Сибирский университет, но уже всей душой был в Ленинграде. Большинство молодых людей в то время были очень подвержены своеобразной «ленинградомании» и бредили почему-то именно этим городом.
Коровашко: – Вообще прогулки по Ленинграду – это же не бесцельное блуждание, а такое считывание культурной памяти. Я хотел бы затронуть тему исторического романа. Мне всегда казалось, что жанр этот в принципе мертвый: выдумать историю, чтобы она удовлетворяла и знатоков, и читателей, наверное, невозможно. Любой исторический роман – это некое насилие над фактами, а с другой стороны – книга всегда будет уступать хитросплетениям реальной исторической жизни. Как ты оцениваешь судьбу этого жанра и нет ли у тебя планов в будущем самому попробовать написать такой роман?
Сенчин: – Я периодически пытаюсь набрасывать что-то такое историческое, например, мечтаю написать хороший детектив, чтобы была адекватная история, а не как бывает в современных детективах, на которые чаще всего смотришь и задумываешься: либо я глупый какой-то, либо автор так все связал – лишь бы связать. Жанр исторического романа сыграл огромную роль в литературе. Вальтер Скотт писал о Средневековье, а это ведь большая просвещенческая идея – донести то, о чем люди не знают. Наш Дмитрий Балашов писал о прошлом, когда это прошлое не хотели в принципе знать и помнить. Я думаю, что многие страницы ХХ века нужно раскрывать. Мы на самом деле мало что знаем, и мне очень трудно понять людей 1920–1940-х годов, я не могу представить, как и чем они жили, несмотря на то что я очень много читал об этом времени.
Коровашко: – После строительного училища была армия. В те годы служба являлась обязательным фактором. Есть давняя традиция воспринимать мир как текст, и раньше в почете была такая пословица: «Жизнь – это книга, а армия – это две лучшие страницы, из нее вырванные». Как ты рассматриваешь свою армейскую жизнь?
Сенчин: – В армию я сначала боялся идти и предпринимал даже некие усилия, чтобы обойти ее стороной. Познакомился с генералом, с которым как-то поел у него дома борща очень жирного, и он мне сказал: давай в Морфлот – это настоящая служба, на корабле объездишь полмира. Меня это очень все испугало, я от него сбежал – в итоге попал в погранвойска, о чем не пожалел. По глупости сказал, что у нас дома есть собака и я имею отношение к дрессировке, меня тут же перевели в кинологи, но через неделю я понял, что мне это не под силу и я не стану никаким сверхсолдатом. Во время службы был поваром, хлеборезом. Более полутора лет прожил на заставе, и служба мне относительно понравилась: что-то в этом есть казацкое, когда ты сам ходишь в наряд, пытаешься как-то облагородить быт – такая полугражданская-полуармейская воинская жизнь. Уволился я, как нерадивый солдат, под Новый год, еле добрался до дома и во время своего дембеля наблюдал по телевизору, как спускается красный флаг, меняется власть в стране параллельно с моей новой гражданской жизнью. Как и для многих, для меня армия – это опыт, из тех времен я то и дело черпаю словечки и характеры, которые в нормальной жизни редко встретишь и услышишь. Интересно, что служишь ты, когда тебе 18–20 лет, а писать-то начинаешь, наверное, к 25 годам, и очень многое забывается. Побыв на гражданке месяца 2–3, человек уже становится другим. А мастерства, чтобы через несколько лет писать с теми же чувствами, потребностями, которые у тебя были во время солдатской службы, порой не хватает.
Коровашко: – Следующий этап напрашивается сам собой – это учеба в Литературном институте. Хочу напомнить, что Министерством образования он был включен в список неэффективных вузов. Хотелось бы услышать твое мнение о Литинституте на сегодняшнем этапе: является он рудиментом советской эпохи или, действительно, это вуз, который выполняет важную социальную функцию?
Сенчин: – Я думаю, что нужно Литинституту самому искать талантливых людей от Камчатки до Калининграда и привлекать их на учебу. Для этого он и был создан. Сейчас же там учится молодежь после школы, в основном москвичи, а не какие-то потенциальные таланты, которые, кстати, могут и не ходить на лекции, записывать каждое слово преподавателя, а потом отвечать на экзаменационный вопрос, какой масти была лошадь у Казбича. Большинство студентов, с моей точки зрения, должны составлять некие странноватые люди. Причем преподаватели-то странноватые еще остались, и действительно они студентов завораживают любовью к чтению, к той литературе, которую в жизни сложно взять, найти и прочитать. Литинститут нужно каким-то образом вывести в новое русло – тогда у него есть шанс остаться. Но у него сейчас действительно есть много конкурентов: это и премия «Дебют», и форум в Липках – они по-настоящему открывают молодых писателей, которым уже не нужно пять лет учиться, а можно просто туда приехать и тут же стать замеченным. Литинститут теоретически должен человека находить, приглашать в Москву, в эту атмосферу литературную, чтобы будущий писатель из нее выходил уже более или менее определившимся.
Коровашко: – Вряд ли Литинститут решит какие-то проблемы, как вряд ли это сделает любой другой вуз, поскольку выстраивать какой-то анклав нормального существования внутри нашей безумной системы практически невозможно. По идее, нужно заменить и школьную программу, ведь классическая литература, которая туда входит, является антибуржуазной, антикапиталистической, «антиэффективной», и получается такое расщепление сознания – наше государство провозглашает путь к светлому рынку, а в школе детей учат (и учат справедливо), что это необычайно плохо.
Сенчин: – Я написал недавно небольшую заметку о том, что нужно пересмотреть топонимику в Москве. Например, есть памятник Абаю, под которым проходили оппозиционные гуляния, а что он писал за стихи, кто знает? Или вот 31-го числа на Триумфальной площади людей не пускают к памятнику Маяковскому, а кем сам-то Маяковский был? Собянин, когда стал мэром, приехал на площадь 1905 года, увидел, что ларьки закрывают памятник борцам революции, – и заявил, чтобы ларьки снесли, а то памятник не видно. В этом есть некий абсурд: наши власти борются с нынешними революционерами, но памятники вольнодумцам прошлого они почитают.
Коровашко: – Напомню, что в начале 2000-х Роман начинает активно печататься в так называемых «толстяках». Как тебе кажется, если ли необходимость эти оставшиеся сейчас толстые журналы пустить в свободное плавание, грубо говоря, лишить их государственной поддержки? Пусть они переходят на самоокупаемость – и это позволит нам выяснить, кто что собой представляет, кто действительно может претендовать на роль арбитра художественного вкуса. Иначе же получается, что достаточно замкнутая группа людей диктует свою волю, заставляя литературу вариться в каком-то затхлом, перебродившем соку.
Сенчин: – В толстых журналах очень сильна роль редактора. В советское время его очень боялись, полагали, что он будет что-то зажимать, обрезать, сейчас же в основном редактор следит за текстом, избавляет от тех ляпов, которые появляются даже у самого талантливого писателя, поэтому в таких журналах мне видна профессиональная работа. Когда же я открываю книги, выпущенные ведущими солидными издательствами, с отличной полиграфией, то вижу, что, кроме автора, туда никто не заходил и ничего не делал, даже корректор. Это во многом обесценивает литературу, такая полная грамматическая свобода. Рядом с авторами должен быть человек, который может поспорить, дать свои замечания. «Наш современник», «Москва» – эти журналы должны существовать и пытаться свою аудиторию расширить.
Коровашко: – Для большинства читателей Роман Сенчин – автор романа «Елтышевы». Меня почему-то всегда удивляла озлобленная реакция ряда критиков и любителей литературы на эту книгу. Причем претензии были не стилистические, хотя часто высказывалась и та группа товарищей, которая считает, что надо писать в стиле Игоря Северянина, то есть насыщать текст неологизмами, каламбурами и цветистыми сравнениями, если же перед нами некая «прямая» проза, то это явный недостаток. Так вот, многие критики всерьез уверяют, что ситуация, описанная в «Елтышевых», невозможна, что страна у нас, наоборот, развивается и все более стремится к высоким вершинам человеческого духа. Почему этот роман вызвал подобное неприятие у некоторых кругов «либеральной общественности»? Ведь, например, по телевизору мы видим фильмы куда более жесткие, трагические и безыс-ходные.
Сенчин: – На этот вопрос мне сложно ответить. Там можно выделить некие, может быть, нестыковки, связанные, например, с тем, что ведомственные квартиры чаще всего по-другому распространяются и отбираются, но в жизни я это встречал, и когда стал перепроверять некоторые факты из книги, то оказалось, что в полиции действительно немало таких случаев, когда человека просто брали и выгоняли из ведомственной квартиры без долгих процедур. Процентов на восемьдесят история людей, показанных в романе, правдива. Реакцию некоторых критиков мне сложно объяснить, всегда есть разные точки зрения и разное отношение к литературе, для одних это одно, для других –другое. Для меня скорее было неожиданным то, что эта книга стала моей визитной карточкой, хотя я свою главную внутреннюю цель связываю с абсолютно другими вещами.
Коровашко: – Книга эта вошла в шорт-листы почти всех главных отечественных премий, но нигде не победила. Как ты воспринимаешь функционирование литературных премий в современной России? Что это за проекты, с чем они связаны, и есть ли хотя бы одна премия, которая отражает реальную иерархию в современной литературе, или это какие-то междусобойчики, которые позволяют пилить скудные, но позволяющие существовать премиальные бюджеты?
Сенчин: – В этом году я был в жюри премии «Русский Букер» и понял, что это действительно очень сложная работа. Мы выбрали роман Андрея Дмитриева с карикатурным названием «Крестьянин и тинейджер», много спорили, почти ругались, но вот приняли такое решение. Премии однозначно нужны, может быть, они слишком расплодились, ведь около трехсот различных премий сейчас существует, а то и больше, но в чем-то они делают свое дело, поддерживают интерес к литературе.
Коровашко: – Хотелось бы с тобой также поговорить о пресловутом «новом реализме». Стараниями толстожурнальных критиков было объявлено о возникновении такого направления в современной русской литературе, куда, кроме тебя, записали Прилепина, Шаргунова и некоторых других. Так вот, что это такое? Реально существующее течение с определенной платформой, программой?
Сенчин: – Реализм, с которым нас связывают, мы придумали с Шаргуновым не сговариваясь, «параллельно», почти одновременно. В апреле-мае 2001-го мы продекларировали, что те процессы, которые происходили в литературе в 90-е, не могут быть главными и нужен какой-то реализм, не тот, который был в начале 80-х, а несколько обновленный – с мистикой, жесткими формами, с большим количеством свободы. Сначала над нами смеялись; когда Шаргунов, например, выступал на первом форуме молодых писателей и говорил об этом «новом реализме», ему свистели из зала, улюлюкали. Но критикам тоже же что-то нужно писать, и они стали все чаще употреблять это понятие. Каких-то участников не было, манифеста тоже, есть лишь такой важный момент, который мы пропагандировали, что нужно возвращать в литературу серьезность. Но в итоге этот новый «бренд» все-таки обратил внимание читателей и критиков на то поколение пишущих, что пришло под флагами «нового реализма».
Коровашко: – Мне любопытно, чем «кормится» писатель, какую печатную продукцию он поглощает. Извини, конечно, за такое грубое физиологическое сравнение, но вот Захар Прилепин как-то говорил, что в 90-е годы он, слушая радио и сталкиваясь с телевидением, составлял перечень писателей, которых ругали за «реакционность». Он записывал их фамилии в специальную книжечку, шел в библиотеку или в букинистический, где покупал книги этих «мракобесов» чуть ли не за несколько копеек. В итоге это очень хорошо сыграло в его пользу, поскольку созданный таким образом круг чтения помог ему выработать свой язык, весьма далекий от тогдашнего мейнстрима. А у тебя, Роман, была какая-то собственная методика подбора книг – или ты руководствовался просто хаотическими событийными обстоятельствами? Есть ли писатели, творчество которых ты бы назвал образцовым или стимулирующим?
Сенчин: – В школе я ненавидел делать домашние задания, слушать внимательно учителя, любил фантазировать, сначала в голове, потом на бумаге. Лет в 13–14 такие фантазии у меня иссякли и появилась потребность что-то такое записывать из реальной жизни, я записывал, потом сравнивал с литературой, в которой почему-то все было гладко и хорошо, а в жизни же ведь не так. Потом появились книги Петрушевской, Калугина, Светланы Василенко, у них герои были несимпатичные, плохо разговаривающие, с какой-то своей серой жизнью. Для меня эти писатели стали не то что учителями, а «проводниками» того, что я сам пытался в литературе зафиксировать.
Коровашко: – А есть ли хоть одна книга за последние четверть века, которая войдет в школьную программу спустя лет пятьдесят или просто останется в читательской памяти? По твоему субъективному ощущению, есть ли сейчас такой роман, который действительно является достоянием истории литературы, а не текущего момента?
Сенчин: – То, что останется, никто не знает, и я не знаю. Книг написано много, и я думаю, что нашему времени не будет стыдно, в плане литературы оно не будет каким-то белым пятном. Те же Белинский и Писарев утверждали порой, что русская литература кончилась, а ведь нет – ничего не кончилось. Это время тоже останется в истории.
Коровашко: – Мне любопытна твоя стратегия личного поведения. Принято считать, что современный писатель для пробуждения интереса к своим книгам обязан играть по правилам литературного рынка, которые, в частности, предполагают обязательное функционирование в интернет-пространстве. Почти все авторы, которые сейчас на слуху, либо ведут «Живой журнал», либо имеют паблик во «ВКонтакте», либо пишут в «Фейсбуке». У тебя же не наблюдается никакой тяги к нахождению в этих трех сатанинских группах. Это тотальная загруженность или определенная позиция, мол, я не буду играть на руку этим силам, которые разлагают нашу ментальность?
Сенчин: – Меня поражает, как человек успевает и книги писать, и на телевидении сниматься, и на радио вести передачи, какие-то колонки публиковать – и при этом постоянно находиться в интернете. Если я не занимаюсь литературой, то делаю другие свои дела, совершенно от нее далекие, поэтому-то меня подобная активность и поражает. Когда я что-то пишу и мне нужна справка в интернете, например в «Википедии», я, зайдя туда, выбираюсь только через два часа, потому что начал тыкать по всяким ссылкам, получил кучу знаний, информации, но зато потерял два часа времени и кучу энергии на это. Вообще для человека, который пишет прозу, вступать в разговор с читателями в Сети не совсем правильно, на мой взгляд, так как там задействуются какие-то другие отношения, весьма далекие от «живой» реальности.
Коровашко: – Итак, переходим к «Туве». Роман, расскажи предысторию этой книги, как возник замысел, как ты определился с жанром? Хочу заметить, что это уникальный случай в истории современной русской литературы, когда автор предельно честен в обозначении жанра своей книги. Сейчас мы живем в том мире, когда маленькую новеллу размером со страничку называют рассказом, рассказ – повестью, а повесть – романом. «Тува» – та редкая книга, которая называется очерком и на самом деле является очерком.
Сенчин: – К жанру очерка я имею некоторую слабость, хотя их у меня мало. Туву я вспоминал достаточно часто, под бутылочку водки, под музыку соответствующую – и однажды написал очерк «Сидя на московской кухне», который напечатал журнал «Дружба народов». Через года полтора ко мне обратился Александр Иванов, директор издательства Ad Marginem, с просьбой написать что-то о моем родном крае, они делали соответствующую библиотечку тонких книжек. Я достал тот самый очерк, доработал его, внес какие-то правки – так и появилась эта книга.
Коровашко: – Когда я ее читал, у меня возникали в голове некоторые параллели между Тувой и Чечней. Хотя географически у них большой разброс, было ощущение их подспудной близости. Попытаюсь объяснить почему. Ты пишешь, что межнациональные конфликты никогда Туву не покидали, они там тлели, а с другой стороны, рассказываешь, что один из регионов этого края населен старообрядцами и очень любопытен тем, что тамошние жители сопротивлялись советской власти вплоть до ее падения. В Чечне же, как мы помним, последний абрек Хасуха Магомадов был убит в 1976 году, поэтому сам по себе факт этого длительного противостояния очень любопытен. В конце 1980-х – начале 1990-х по Кызылу разъезжали машины с пассажирами, увешанными автоматами, которые палили в разные стороны, и это тоже напоминает знакомую чеченскую картинку. Ко всему этому надо вспомнить и то, что у нас так любят замалчивать во властных коридорах и СМИ, – бегство русского населения. Как тебе кажется, Тува – это действительно такая мини-Чечня, или я все-таки сгущаю краски?
Сенчин: – Их и правда иногда сравнивают, в советское время это были две республики, где коренного населения было больше, чем русского. Того, что сейчас мы знаем о Чечне, в Туве не происходило. Скорее там присутствовало психологическое нагнетание, действовала свободная конституция, по которой Тува в любой момент могла отойти от России, и население чувствовало себя очень неуютно. Тем более представьте, что чисто географически – это такой настоящий каменный мешок, из которого ведут какие-то две условные дороги, то есть выбраться оттуда практически невозможно. Бывая там в последние годы изредка, я не могу сказать, что это какой-то благостный, миролюбивый край, в котором все отлично, но, слава богу, конституцию изменили, туда потихоньку тянут железную дорогу, хотя к чему она приведет, тоже сложно сказать – то ли к процветанию, то ли к тому, что тувинская котловина станет огромным карьером по добыче угля. Но какое-то будущее есть. Староверы там действительно остались, в советское время их особо и не трогали, паспорта не вручали и не говорили, что теперь ты советский гражданин, – их как-то оформили в охотничьи хозяйства, и они продолжали жить своей автономной жизнью. Были, конечно, посягательства на них, случались и самоубийства, но так или иначе они пронесли свою веру и свой уклад жизни до наших времен. Рыночные отношения на них, кстати, повлияли больше, чем советская власть. Теперь там лоббируются какие-то туристические центры, приезжал Никита Михалков, Лужков там бывал, и жители, наверное, почувствовали выгоду мирского существования.
Коровашко: – В тексте «Тувы» ты рассказываешь о романе своего отца и своих попытках довести его до конца, опубликовать. Есть ли какие-то шансы этому плану реализоваться или роман останется семейной реликвией?
Сенчин: – Отец, будучи родом из Красноярска, оказался в Кызыле, а это совершенно разные миры. Он прожил там лет тридцать и пытался эту землю, историю понять, собирал в архивах материалы о ней. Для меня книга – сложный и больной вопрос, чтобы закончить такую вещь, нужно попасть в некое измерение другое, полунаучное, некий космос времени.
Коровашко: – Думаю, что стоит закончить наш разговор не литературными материями, а например, кулинарными составляющими Тувы. Чехия для нас – это пиво, Франция – круассаны, есть ли какое-то тувинское блюдо, по которому ты тоскуешь – или эта кухня прошла мимо тебя?
Сенчин: – У всех, кто там жил и кто туда приезжает, вся еда связана с бараниной. Например, ее варят очень недолго, чтобы оставить витамины. Если баран хороший и ты знаешь, где он пасся и как он жил, то, в общем-то, заболеть вариантов немного. Популярна жареная баранина, есть такое блюдо – хан, его готовят в процессе разделки туши: кишки набивают диким чесноком, крупами и заливают свежей кровью. Для меня был большой вопрос, почему тувинцы практически не едят рыбу, хотя ее там очень много и она очень вкусна. Например, водятся огромные щуки, живут они вяло, питаются тем, что попадет к ним в пасть, почти не гоняются за дичью, поэтому они очень жирные и вместо костей у них хрящики – очень своеобразная еда и очень вкусная. Конечно, кедровые орехи – одна из главных составляющих местной кухни. Их не просто щелкают, а добавляют в варенье, делают из них настойку – выпить тувинцы не дураки, делают араку – довольно слабую, но если ее перегнать 7–8 раз, то бывает крепче нашей водки.