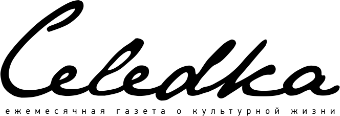"«Двенадцатая ночь»: «в людях»"
Борис Гройс недавно проницательно заметил, что имеющая почтенную историю утопическая греза: «Каждый человек – художник!» – сбылась наконец во всей красе. Социальные сети радикально изменили привычный расклад: художник творит – публика внимает. Сегодня «публика» только и делает, что непрерывно фотографирует, снимает видео, пишет тексты, то есть занимается искусством, объекты которого почти неотличимы от постконцептуалистских радостей contemporary art.
Однако эйфория самопального креатива не бесконечна. Иногда, выложив все фотки детей, собак, котов и ночных видов Шарм-эль-Шейха, хочется вновь почувствовать себя старомодным потребителем. Временно сменить, так сказать, творческое горение на пассивное удовольствие созерцания. Да и ноутбук надоело на животе перекладывать – пора «выйти в люди». Но куда, собственно, пойти? Вопрос не праздный, особенно для тех, кто постарше. Кино – и в зале, и на экране – оккупировано бесноватой школотой, в которую хочется вбить осиновый кол и присыпать для верности освященным попкорном. Современное искусство по инерции настораживает, а в своих наиболее свирепых инкарнациях – немного пугает. Да и смысл разглядывать подслеповатые ролики «Дневника» Тани Муро, если с десяток собственных снятых на мобильник «дневников» уже висит «ВКонтакте». В приличном ресторане дорого, в не очень приличном – грызут подозрения, что недоваренную вермишель с кетчупом и растворимый Jacobs Monarch можно было приготовить дома.
Тут на выручку и приходит репертуарный театр – один из немногих оставшихся путей «в люди» для небогатого среднего класса среднего возраста, сохранившего еще с советских времен чувство уважения к искусству, культуре и прочей «духовности», то есть для тех, кого в старину в широком смысле называли интеллигенцией. «Дом-2» смотреть противно, перформансы Боба Флэнагана – страшно (и тоже противно), а потребность в культурном досуге еще не убита ни первым, ни вторым. Ответом на подобный культурфетишистский запрос и является огромный массив профессионального искусства (не только театрального, конечно), о котором парадоксальным образом нельзя ничего сказать именно как об «искусстве». Точнее, можно, но любое высказывание будет избыточным. Если актуальные художественные практики все время стараются перестать быть «искусством» и, как раз в силу этого старания, неизбежно «искусством» оказываются (а следовательно, обсуждаются и комментируются), то здесь мы сталкиваемся с обратным процессом. Настойчивое стремление окопаться на утрамбованном поле «художественного», пусть и с легкой прививкой «эксперимента», освобождает от невротических поисков прорыва к профанной, неэстетизированной «жизни», отличающих передовой art. Как ни странно, именно это освобождение к «жизни» и приближает. Вернее, делает постановку (или выставку) частью привычного и банального жизненного контекста: «выбрались наконец всей семьей», «прогулялись по Покровке», «посидели в кафе», «сходили в театр». Здесь нет табу и запретов, навязываемых модными кураторами, элитарными критиками и продвинутыми теоретиками, вечно бубнящими: «Это уже было!» Тут – чистое пространство желания. Но не желания автора, как в случае с наивным художником-самоучкой, самозабвенно карандашами и фломастерами копирующим Илью Глазунова или Вермеера, а желания зрителей. Причем не каких-нибудь там низменных желаний, обслуживаемых пошлым телевизионным китчем, а самых что ни на есть культурных. И в том, чтобы потакать желаниям, нет ничего плохого.
Спектакль «Двенадцатая ночь» Нижегородского театра драмы – неплохая иллюстрация к сказанному. С одной стороны, все прилично, никаких безобразий: актеры со сцены матом не ругаются, не курят и водку не пьют. Можно и детей с собой взять. С другой – как будто бы «свежий взгляд» на классическую драматургию, дерзко бросающий вызов традиции. Действительно, Шекспир – не Рэй Куни. Вещь серьезная, даром что комедия. Уже не обойдешься серией неряшливых «ржачных» гэгов, классика требует «новой трактовки», «сотворчества» и «острых интерпретаций». (При сохранении глубочайшего уважения к тексту, разумеется.) И ничего, что очередное «смелое толкование» сведено по большому счету к анахроничным костюмам и протянутому над сценой электрокабелю. Вот, мол: The time is out of joint. Цитата, правда, из другой пьесы, но и у нас, в этом «времени», «сорванном с петель» гением английского Барда, закружились-завертелись эпохи и страны, заново соединенные в карнавальном беспорядке электричеством истинной поэзии. «Любовь идет по проводам».
Не знаю, таков ли был режиссерский месседж, но, как мне кажется, это в данном случае не очень важно. Я никогда не поверю, что можно всерьез обсуждать, почему Орсино щеголяет в каком-то белом кителе, а Мальволио катается по сцене на велосипеде. Единственный смысл всех этих замусоленных «модернистских» (ну, или «постмодернистских» – как бы сказал Шекспир: As You Like It) новаций только в том, чтобы после спектакля состоялся приблизительно следующий диалог.
Она (лукаво имитируя простодушное любопытство): – Слушай, а зачем они соединили проводами античные колонны со столбом электропередач?
Он (внешне снисходительно, но втайне радуясь возможности блеснуть): – Ну, понимаешь, это же искусство. Нам символически демонстрируют вневременную ценность пьесы Шекспира, лишь прирастающую значениями с каждой новой постановкой.
Она (ласково улыбаясь: «Нет, наверное, не зря я с ним живу»): – Какой же ты у меня все-таки умный!
Диалог настолько же бессмысленный, насколько необходимый. Лингвист Роман Якобсон предложил в свое время идею о «фатической» функции языка, понимая под ней такое использование последнего, которое поддерживает социальные контакты посредством ритуализированных формул вроде всем известных разговоров о погоде. Предельным выражением «фатического» разговора будет что-нибудь типа: «Ну, че, братка, как оно?» – «Да че-то как-то так, брат. Как-то так оно все». Понятно, что эта «беседа» не более чем проверка коммуникативной трубы, канала и кода. Но из подобных проверок соткана материя такой уютной и домашней обыденности. Повседневная банальность, болтовня, рассеянный «гул языка» – это и есть то, что делает жизнь выносимой. Так что будем ходить «в люди» и болтать о Шекспире.
Однако эйфория самопального креатива не бесконечна. Иногда, выложив все фотки детей, собак, котов и ночных видов Шарм-эль-Шейха, хочется вновь почувствовать себя старомодным потребителем. Временно сменить, так сказать, творческое горение на пассивное удовольствие созерцания. Да и ноутбук надоело на животе перекладывать – пора «выйти в люди». Но куда, собственно, пойти? Вопрос не праздный, особенно для тех, кто постарше. Кино – и в зале, и на экране – оккупировано бесноватой школотой, в которую хочется вбить осиновый кол и присыпать для верности освященным попкорном. Современное искусство по инерции настораживает, а в своих наиболее свирепых инкарнациях – немного пугает. Да и смысл разглядывать подслеповатые ролики «Дневника» Тани Муро, если с десяток собственных снятых на мобильник «дневников» уже висит «ВКонтакте». В приличном ресторане дорого, в не очень приличном – грызут подозрения, что недоваренную вермишель с кетчупом и растворимый Jacobs Monarch можно было приготовить дома.
Тут на выручку и приходит репертуарный театр – один из немногих оставшихся путей «в люди» для небогатого среднего класса среднего возраста, сохранившего еще с советских времен чувство уважения к искусству, культуре и прочей «духовности», то есть для тех, кого в старину в широком смысле называли интеллигенцией. «Дом-2» смотреть противно, перформансы Боба Флэнагана – страшно (и тоже противно), а потребность в культурном досуге еще не убита ни первым, ни вторым. Ответом на подобный культурфетишистский запрос и является огромный массив профессионального искусства (не только театрального, конечно), о котором парадоксальным образом нельзя ничего сказать именно как об «искусстве». Точнее, можно, но любое высказывание будет избыточным. Если актуальные художественные практики все время стараются перестать быть «искусством» и, как раз в силу этого старания, неизбежно «искусством» оказываются (а следовательно, обсуждаются и комментируются), то здесь мы сталкиваемся с обратным процессом. Настойчивое стремление окопаться на утрамбованном поле «художественного», пусть и с легкой прививкой «эксперимента», освобождает от невротических поисков прорыва к профанной, неэстетизированной «жизни», отличающих передовой art. Как ни странно, именно это освобождение к «жизни» и приближает. Вернее, делает постановку (или выставку) частью привычного и банального жизненного контекста: «выбрались наконец всей семьей», «прогулялись по Покровке», «посидели в кафе», «сходили в театр». Здесь нет табу и запретов, навязываемых модными кураторами, элитарными критиками и продвинутыми теоретиками, вечно бубнящими: «Это уже было!» Тут – чистое пространство желания. Но не желания автора, как в случае с наивным художником-самоучкой, самозабвенно карандашами и фломастерами копирующим Илью Глазунова или Вермеера, а желания зрителей. Причем не каких-нибудь там низменных желаний, обслуживаемых пошлым телевизионным китчем, а самых что ни на есть культурных. И в том, чтобы потакать желаниям, нет ничего плохого.
Спектакль «Двенадцатая ночь» Нижегородского театра драмы – неплохая иллюстрация к сказанному. С одной стороны, все прилично, никаких безобразий: актеры со сцены матом не ругаются, не курят и водку не пьют. Можно и детей с собой взять. С другой – как будто бы «свежий взгляд» на классическую драматургию, дерзко бросающий вызов традиции. Действительно, Шекспир – не Рэй Куни. Вещь серьезная, даром что комедия. Уже не обойдешься серией неряшливых «ржачных» гэгов, классика требует «новой трактовки», «сотворчества» и «острых интерпретаций». (При сохранении глубочайшего уважения к тексту, разумеется.) И ничего, что очередное «смелое толкование» сведено по большому счету к анахроничным костюмам и протянутому над сценой электрокабелю. Вот, мол: The time is out of joint. Цитата, правда, из другой пьесы, но и у нас, в этом «времени», «сорванном с петель» гением английского Барда, закружились-завертелись эпохи и страны, заново соединенные в карнавальном беспорядке электричеством истинной поэзии. «Любовь идет по проводам».
Не знаю, таков ли был режиссерский месседж, но, как мне кажется, это в данном случае не очень важно. Я никогда не поверю, что можно всерьез обсуждать, почему Орсино щеголяет в каком-то белом кителе, а Мальволио катается по сцене на велосипеде. Единственный смысл всех этих замусоленных «модернистских» (ну, или «постмодернистских» – как бы сказал Шекспир: As You Like It) новаций только в том, чтобы после спектакля состоялся приблизительно следующий диалог.
Она (лукаво имитируя простодушное любопытство): – Слушай, а зачем они соединили проводами античные колонны со столбом электропередач?
Он (внешне снисходительно, но втайне радуясь возможности блеснуть): – Ну, понимаешь, это же искусство. Нам символически демонстрируют вневременную ценность пьесы Шекспира, лишь прирастающую значениями с каждой новой постановкой.
Она (ласково улыбаясь: «Нет, наверное, не зря я с ним живу»): – Какой же ты у меня все-таки умный!
Диалог настолько же бессмысленный, насколько необходимый. Лингвист Роман Якобсон предложил в свое время идею о «фатической» функции языка, понимая под ней такое использование последнего, которое поддерживает социальные контакты посредством ритуализированных формул вроде всем известных разговоров о погоде. Предельным выражением «фатического» разговора будет что-нибудь типа: «Ну, че, братка, как оно?» – «Да че-то как-то так, брат. Как-то так оно все». Понятно, что эта «беседа» не более чем проверка коммуникативной трубы, канала и кода. Но из подобных проверок соткана материя такой уютной и домашней обыденности. Повседневная банальность, болтовня, рассеянный «гул языка» – это и есть то, что делает жизнь выносимой. Так что будем ходить «в люди» и болтать о Шекспире.