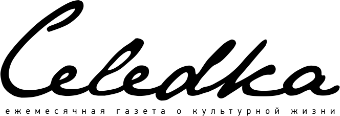"Тюбик"

Фотограф и режиссер Сергей Мутыгуллин провел в областном тубдиспансере 53 дня с диагнозом: «Правосторонний верхнедолевой инфильтративный туберкулез». Его дневник специально для «Селедки».
Прибытие
– Фамилия?
– Мутыгуллин.
– Имя-отчество?
– Сергей Фаритович.
– Год рождения?
– 1989.
– Кем работаете?
– Режиссер монтажа.
Мы проходим сквозь коридоры, выкрашенные грязно-веселой краской. Направо, налево, снова налево, вперед по коридору, через двери с магнитным ключом, чуть вверх по лестнице. Я быстро путаюсь, вижу двери с надписью «Легочно-хирургическое отделение» и длинный коридор. Стены бледно-оранжевого цвета, ремонт сделан не так давно. По левую сторону от меня вдоль коридора располагаются палаты, из которых выглядывают любопытные серые лица. Палата, в которую меня определили, полупустая, из шести коек только две заняты мужичками небольшого роста, раздетыми до торса: в больнице стоит ужасная жара. Они почти не обращают на меня внимания, гораздо важнее прослушивание радио «Шансон» и споры о чем-то незатейливом. У одного из них на плечах и коленях набиты розы ветров.
Почти сразу в палату заходит мой врач. Я заранее знаю, как его зовут, что он кандидат медицинских наук и преподает в одном из наших вузов. Знаю я это, потому что на него вышла через нескольких своих знакомых моя мать, которая очень волновалась о том, к кому я попаду.
– Ты, я так понимаю, Сергей? Я твой врач, Е. Рассказывай, с чем приехал, – улыбается он глазами поверх маски.
– В феврале мне нужно было сделать флюорографию для работы, и я пошел в платную клинику, где у меня обнаружили затемнение в легком с подозрением на правостороннюю пневмонию. Решили направить к терапевту и фтизиатру по месту жительства. К фтизиатру, чтобы исключить туберкулез, но диагноз неожиданно подтвердился. Стали лечить по месту жительства – два месяца я был на дневном стационаре, принимал таблетки, делал уколы и уезжал. Через два месяца пришел положительный анализ мокроты, и меня перевели в стационар.
– И там ты лежал еще месяц?
– Да, – отвечаю я и, конечно, молчу о том, что в стационаре по месту жительства почти все больные договариваются с врачами и уходят после обеда домой. В самом стационаре остаются ночевать только тяжелобольные, ленивые или те, кому некуда идти. За три недели туда два раза приезжал милицейский уазик и увозил особо буйных или особо пьющих. Пили там многие. День таких людей заключался в том, чтобы найти денег, сбегать до капельницы или до магазина с водкой, а дальше – как пойдет.
Операция
Примерно в 9:30 утра к двери палаты привозят каталку, по-местному – «такси». Меня везут в операционную, я смотрю на лампочки под потолком и немного по сторонам. Дверь – мы в отделении реанимации, еще дверь – коридор, еще дверь – мы в операционной. Тут светло и чисто. Я кручу головой, пытаясь рассмотреть что-нибудь по сторонам, но особо ничего не видно. Краем глаза замечаю, как готовят инструменты к операции, и самый устрашающий из них – реброрасширитель. Сестра в маске просит меня перебраться с каталки на хирургический стол.
Реанимация
Я прихожу в себя на большой высокой койке с приподнятой спинкой. К носу проведена трубочка с кислородом, как в кино. Слева на такой же койке лежит худенькая девушка примерно моего возраста, которой делали операцию параллельно со мной. Справа метрах в трех за столом сидит дежурный медбрат и читает газету.
Краем глаза я вижу, как он берет мою кружку и набирает из нее столовую ложку воды, чтобы дать промочить мне горло.
– Сейчас бы лучше пивка светлого нефильтрованного, – хриплю ему в ответ.
Он смеется.
– Да, тебе точно лучше пивка! Ты стихи читал после наркоза.
– Без мата?
– Да, вполне цензурные, нам понравилось.
Чтобы встать с кровати, нужно потратить уйму сил. Правая сторона груди перебинтована, а чуть ниже нее из меня торчат две трубки толщиной по сантиметру и длиной примерно 15–20 сантиметров. Каждая трубка на конце пережата хирургическим зажимом. Это дренажи. Трубки наполнены красновато-желтой дрянью. На ночь трубки опускают в бутылки и снимают зажимы. Когда встаешь с кровати, трубки начинают задевать друг друга, тело, рубашку. Мышцы и ребра болят.
Боль
Послеоперационные антибиотики вызывают жуткую боль в животе. Эта боль вместе с температурой 38–39 градусов держат меня на койке в скрюченном состоянии почти круглые сутки. Есть ничего не хочется. Я почти не сплю три ночи. Медсестры дают какие-то таблетки и делают уколы, но они не особо помогают. В конце концов боль переходит в психическую. Ночью в позе эмбриона я пытаюсь не обращать внимания на живот и уснуть. Перед глазами в пустоте начинают появляться непонятные образы космоса, моря, пустыни, человеческих тел и странных механизмов. Все это сливается в безумный сюрреалистичный водоворот. Через пару дней курс антибиотиков заканчивается, и мой живот постепенно успокаивается. Я наконец-то могу есть и даже иногда хочу.
Жидкость
8 утра.
– Мутыгуллин, на УЗИ!!
Врач возит по спине аппаратом, берет маркер и ставит точку. По рассказам мужиков я уже знаю, что это значит: у меня нашли жидкость, которую нужно откачивать через спину.
– В общем, жидкости миллилитров 300. Из-за нее у тебя держится температура. Сейчас я установлю микродренаж и откачаю ее. Потом температура придет в норму и станет лучше.
Краем глаза я увидел, как сестра принесла пол-литровую банку и поставила ее на табуретку за моей спиной. Доктор ввел дренаж и начал откачивать жидкость огромным шприцем. Я смотрел перед собой и все пытался переварить: «Вот я сижу, в моей спине дырка в пару миллиметров, через которую из меня выкачивают какую-то жидкость, которой там быть не должно, но которая там почему-то образовалась. И никто не может дать гарантий, что она там не образуется еще раз. Как мы докатились до этого?»
Банка постепенно наполнилась красно-желтой дрянью.
– Ну и где там 300 миллилитров? Да тут все 600 можно откачать! – сетовал док на заключение из кабинета УЗИ. – Этот дренаж повисит у тебя еще пару дней, может, чего еще накапает.
– В смысле?!
– Ну, в прямом… Эта трубка будет висеть из твоей спины, а на поясе будет к ней подключена вот эта гармошка, чтобы потихоньку высасывать жидкость, если она там будет появляться. Да ты не бойся. С этой штукой и на спине спать можно, ничего страшного не будет. Через пару дней снимем, если больше капать не будет.
Первые пару часов от всего этого голова кругом. Но уже на следующий день температура спала, жидкость больше не капала. Док не обманул: мне стало значительно лучше, и еще через день дренаж сняли.
ЛЮДИ
Саша
Саня – это мужик лет 35, родом он откуда-то из глубинки, но живет в Нижнем. Пару раз был женат, от одного брака есть дочка. В диспансере у него есть подружка, хотя перед сном он постоянно созванивается либо с текущей, либо с бывшей женой. Работает он егерем в частном охотничьем хозяйстве. Сам тоже увлекается охотой, рыбалкой и постоянно травит байки про это.
– А ты сам откуда?
– С Ардатова.
– О! Бывал я там у вас, в Ардатове. Люди там все какие-то странные. Помню, поехали мы туда к Васильичу на охоту. А зима была, морозы, градусов 25. Ну, подъезжаем уже к дому, и мужик какой-то бежит босиком, прикинь! БОСИКОМ через сугробы полуметровые и тащит двух куропаток в руках. «Возьмите, мол, мужики, за бутылку». Ну, мы его пожалели, взяли у него этих куропаток, в дом пригласили. Налили ему, поесть дали. А он все бутылку свою придерживает. Витька его пожалел и свои охотничьи сапоги отдал ему в дорогу. Мужичонка ушел счастливый, а мы дальше квасить. С утра просыпаемся, похмелье. Выходим на улицу, а там вчерашний мужичок бежит уже к нам опять босой, опять в каких-то брючках, фуфайке и опять двух куропаток прет. Мужики, грит, возьмите за бутылку! Мы его спрашиваем: куда ж ты сапоги-то вчерашние дел? А он и говорит: да я вышел от вас вчера, бутылку пригубил, пришел к соседу, да и отдал ему сапоги за литр. Вот такие вот эти ваши ардатовские ребята. Пошел, говорит, и отдал за литр. Эх… Чего только не было в этом Ардатове…
Кирилл
Кирилл приехал из Правдинска. Ему около 30, по специальности он плотник, но работает водителем, потому что нравится. Дома его ждут жена и дочка. Вечерами он постоянно громко ругается с женой по телефону, а после того как кладет трубку, сетует на всю палату, что если бы не дочка, то давно ушел бы. Здесь, в диспансере, он познакомился с девушкой лет 25–30 по имени Лена. Она часто заходит к нам в палату, садится на кровать к Кириллу и обнимается с ним. Иногда они целуются. На кровати у него поверх местного тощего, еле заметного матраса лежит огромный надувной из «Ленты». Кирилл не может спать на больничной койке и купил его за 700 рублей. Матрас настолько огромный, что поднимается почти до высоты спинок кровати. Еще у него диабет, а значит, в столовой положено специальное меню, так называемый «девятый стол».
– Кирилл, вставай, завтрак!
– А че там?
– Макароны с сыром и сосиской.
– Ладно, иду…
Кирилл приходит в столовую и ему накладывают невнятного вида кашу.
– Не надо мне этого, я это жрать не буду.
– Чего это?! – возмущается повариха.
– Да ничего! Просто я ЭТО жрать не буду, не надо, даже не накладывайте, я все равно сразу унесу.
– Не надо тут орать! Хоть бутерброд возьми!
Он уходит в палату и обратно заваливается спать. На полдник всем приносят пироги с курагой, Кириллу приносят вареное яйцо. Он берет и выкидывает его в урну.
Леха
Леху перевели на операцию из Кстовского диспансера. Когда его записали к нам в палату, кровати для него не хватило, поэтому ему выделили топчан. Так он до сих пор и спит на этом топчане по соседству с огромной кроватью Кирилла. Но он не жалуется, а ведет себя очень скромно и добродушно. Жизнь его потрепала: по больницам он мотается уже второй или третий год. Рассказывал, как на работе на него упала опора электролинии, потом начались проблемы с неврологией, затем печень посадили какими-то лекарствами. В кстовском диспансере они только и делали, что бухали. Леха почти сразу признается: я алкоголик. Но здесь пить хочет перестать, чтобы нормально прошла операция.
– У нас в Кстове мужики пьют «Пушистик».
– Это что?
– Да фиг его знает, кажется, какая-то жидкость для очистки кафеля.
– С ума сошли! Это что-то типа стекло-очистителя что ли?
– Ну да, наверное, – смеется Леха. – А что там мужику простому делать еще, сам посуди? Вот мужик, он алкоголик уже, денег у него нету. Сколько сейчас стоит самая дешевая бутылка водки? Ну, рублей 170, так? Там пол-литра. А «Пушистик» стоит 36 рублей. Там флакончик такой, граммов 200, 75 % спирта. Его разводят на бутылку воды и пьют. Вот так. А некоторые и чистоганом херачат. Так вот и живут. От этого «Пушистика» у одного мужика у нас ноги отнялись, еле откачали, у одного чуть крыша не съехала.
– А почему «Пушистик»-то?
– Да там, понимаешь, на этикетке нарисован детеныш этого… как его… морского котика или кого-то такого… Белек – вот! Поэтому и «Пушистик».
Максут
Максут татарин. Ему 38, холост. Невысокого роста, крепкого телосложения и очень загорелый. Он говорит с сильным акцентом и невозможно быстро. Примерно половина его речи остается для меня загадкой. Треть зубов у него золотые, и он постоянно сверкает своей искренней доброй улыбкой. Максут – широкая душа. Угощает всех чаем или какой-нибудь мелочью. Каждый вечер они с товарищем по палате скидываются, покупают курицу гриль и устраивают маленький пир часов в 10 вечера на всю палату. Леха приносит шмат сала из холодильника.
– Максут, тебе же нельзя сало, ты же татарин!
– Тут можно, тут больница, – улыбается он и нарезает сало.
– А говядину вам можно? А конину?
– Да, почему нет? У меня хозяйство свое. Лошадей растим, баранов, коров.
– А поросей?
– Поросей – нет. Нельзя.
– А тут, значит, можно? – опять смеется вся палата.
– Тут можно, тут болеем.
Они еще долго обсуждают, как правильно убивать баранов, лошадей и прочую живность, чтобы сохранить шкуру или чтобы мясо было вкуснее.
– Максут, а ты вот выйдешь из тубанара, приедешь домой, что делать будешь?
– Я соберу родственников, позову друзей из Москвы, заколю барана и устрою обед.
Поддувания
– Значит, так, жидкости у тебя больше нет, с завтрашнего дня начнем поддувать.
Максим Сергеевич, мой новый врач, никогда не смотрел в глаза. За это в него всегда хотелось чем-нибудь кинуть с криком: «Я здесь!»
– А что за поддувания?
– В брюшную полость закачивается воздух, который поджимает диафрагму, а диафрагма поджимает легкое. Это нужно, чтобы исключить повторное образование очага болезни.
На следующий день с утра я не ем и не пью. Медсестра приглашает меня в перевязочную, где я раздеваюсь до пояса и ложусь на кушетку. Под поясом у меня подушка толщиной примерно 10–15 сантиметров, и я волей-неволей выгибаю спину и выпячиваю живот. Рядом с кушеткой стоит нечто, напоминающее весы, только вместо чаш у них две колбы. В одной из них желтая жидкость, вторая пуста и соединена с первой системой резиновых трубок.
– Уколю! – услышал я знакомый крик врача и отвлекся от чудо-агрегата. Укол пришелся в область живота, чуть левее и ниже пупка. Игла прошла через кожу и уперлась во что-то.
– Набери воздуха в живот!
Я пытаюсь это сделать, но с первого раза не получается.
– Нет! Выдохни! А теперь вдохни полными легкими! А теперь из легких перегони его в живот! Вот так!
Я чувствую, как мой живот надулся, и игла уперлась сильнее. Доктор делает один или два легких удара по ней, и я слышу звук, похожий на звук прокалывания шилом очень толстой мешковины. Игла прошла в брюшную полость: самое болезненное, как мне говорили, позади.
Сестра переворачивает весы, и фурацилин начинает перетекать в пустую колбу, воздух из которой вытесняется по системе клапанов ко мне в брюшную полость. Объем колбы 400 мл. Сестра переворачивает весы 4 раза.
Полуторалитровый пузырь воздуха внутри меня, подчиняясь законам физики, начинает медленно перетекать из одного места в другое. Я чувствую, как меня распирает изнутри, и медленно, стараясь не делать резких движений, придерживая рукой живот, плетусь обратно в палату. Каждый шаг отдается глухим толчком у меня в груди. Я дохожу до койки и начинаю медленно пытаться перейти в горизонтальное положение, но понимаю, что нечего затягивать, и плюхаюсь на бок. Внутри все начинает бурлить, и пузырь медленно перетекает в область правого легкого. Через полчаса во мне все наконец-то успокаивается. Я лежу не шевелясь около трех часов, лишь бы только не потревожить пузырь.
Обед и ужин в меня почти не лезут. Сестра говорит, это из-за давления воздуха на органы желудка и кишечника. Вечером приезжают друзья, и я спускаюсь с пятого этажа погулять с ними. «Чертова лестница! Никогда не думал, что это может быть так сложно». Далеко ходить у меня не получается, я быстрее устаю и хочу больше сидеть.
Уже около недели я сплю только на левом боку или на спине. По утрам тело болит. «Лишь бы это дерьмо помогало, – скриплю я зубами каждый раз, когда спускаюсь по лестнице, – лишь бы помогало».
Дом
Через месяц после операции мое состояние позволяет мне съездить домой. Заранее, в четверг, я пишу заявление на отгул. Домой можно ездить раз в 3 недели вне зависимости от того, как хорошо ты себя чувствуешь, и тем более от того, как тебе здесь надоело. Некоторым в отгулах отказывают, хотя многие ездят домой чаще, чем раз в 3 недели, не заполняя бумажку, а просто договорившись с врачом. В пятницу после обеда, получив таблетки, можно уезжать. Коридоры больницы почти пустые: на выходные уезжает обычно примерно четверть людей. Остальные, наверное, сидят в курилке или уже отмечают пятницу. «Да, – думаю я, – даже в диспансере есть пятница. Какой же универсальный праздник».
Добро пожаловать обратно
Будучи дома, я почти не чувствовал себя ни больным, ни ослабленным. Разве что в случаях с физическими нагрузками. Мне думается, что психика человека настроена на больницу примерно так: «Я в больнице. Я не посетитель, и я здесь не работаю, значит, я больной. Если я больной, значит, у меня все должно болеть». Этакий психологический эффект. И действительно, в больнице словно хочется ходить сгорбившись, подкашливать и весь день лежать в полной уверенности, что у тебя болит где-то в боку. Посему я еще больше захотел отсюда выписаться. Весь мой мозг словно стал заполнен одной-единственной фразой: «Свалить! Как можно скорее свалить отсюда! Бежать как можно дальше!»
На выписку
Через пару дней после возвращения в больницу на утреннем обходе врач говорит мне, что в следующий понедельник меня выпишут.
– А что дальше?
– Дальше? Как минимум полгода приема противотуберкулезных препаратов, которые вам назначены, плюс уколы, если они есть, ну, это уже ваш новый врач будет решать.
– И все это на больничном листе? Работать я не смогу?
– Какая работа?! Вы что? У вас сложная операция была, забудьте о работе! Когда у вас начался больничный лист?
– 20 февраля 2013 года.
– Значит, теперь смотрите: когда вы будете на больничном год, то есть 20 февраля 2014-го, вы можете подать свое дело в комиссию для получения инвалидности, которую дадут, скорее всего, на год, и только третью группу. На вторую вы не тянете, хотя операция и была, как я уже говорила, довольно сложная: все-таки половина легкого удалена, а это значительно отличается от обычных случаев.
– И что это мне даст? В смысле, что мне даст инвалидность?
– Как что? Субсидии в течение года. Ограничений к работе там, кажется, нет, если вы об этом.
– Получается, что инвалид я уже, а инвалидность мне дадут через полгода?
– Ну, не я эту систему создавала.
Я пытаюсь отпроситься на выходные домой, но меня не отпускают, потому что мое лечение проходит со сложным режимом и спецпрепаратами, которые на руки не выдаются. Врач непреклонен. Я молчу о том, что Сашка не пил таблетки ни разу за все время, пока я живу с ним в одной палате. Всегда, когда их приносили, он только делал вид, закидывая руку, а как только сестра выходила, он прятал таблетки в специальную коробочку в своем шкафу. Никто не знал, зачем ему эти таблетки. Все остальные, кто не хотел пить таблетки, просто выкидывали их в унитаз, притворившись перед сестрой, что выпили их. Я молчу и про то, что любой другой врач отпустил бы больного в моей ситуации домой, а некоторые сами бы предложили сбежать поскорее из этого места. Я молчу, потому что просто не хочу с ней ссориться.
Воскресенье
Наступает отсчет последних 24 часов в областном диспансере. С самого утра, словно по древней поговорке о том, что последний километр из ста – самый сложный, мне становится так плохо, как давно уже не было. Я просыпаюсь с чувством сильной тошноты. Большую часть дня я лежу на кровати, пытаясь уснуть. «Проклятая больница, отпусти меня с миром, я и так много сил тебе отдал». Мужики в палате, как обычно, скидываются на курицу гриль, я тоже добавляю 150 рублей по случаю выписки. В половине девятого раздают ряженку. За окнами только что прошла гроза, и в палате свежо. Горит свет, мужики расстилают на тумбочке газету и тащат мешок с продуктами из холодильника. Скоро в двух остановках от «Фантастики» в небольшой комнатке на пятом этаже у шести человек, у которых очень мало общего, кроме одного диагноза, будет свой небольшой пир. Даже в диспансере может быть не так уж страшно и мерзко.
Постскриптум
Наступает утро моей выписки. Я выгребаю вещи из тумбочки и шкафчика. Жизнь вокруг идет обычным темпом: мои соседи по палате просыпаются, завтракают, принимают таблетки, делают уколы, опять ложатся спать или просто лежат на кровати. Мне уколы и таблетки уже не положены: сегодняшняя дата стоит в моей выписке, меня здесь уже практически не существует. Я достаю фотоаппарат и делаю несколько снимков на память. Остается еще пара кадров, и я выхожу из палаты и фотографирую то самое «такси», на котором каждого из нас увозят под нож. Сколько спин оно уже видело, и сколько ему еще предстоит увидеть? Я жму руки всем, кто разделил со мной эту палату, и всем тем, с кем мы подружились за эти 53 дня. Мужики традиционно желают выздоравливать и никогда сюда не возвращаться, я в свою очередь обещаю выслать фотографии. Коридор, лестница в пять этажей – и я на улице.
История моего пребывания в областном противотуберкулезном диспансере закончилась, но история моей болезни еще продолжается. Сейчас она толстым пакетом флюорограмм, рентгеновских снимков, анализов и направлений висит у меня в руке и ждет.
Я не верю в случайности. Да, я курил и пил. Но, умоляю, все вокруг меня делали ровным счетом то же самое. Все те люди, в компании которых я проводил время, пили одну и ту же дрянь и курили одни и те же сигареты, но в больницу попал именно я. Так же было, когда я учился в десятом классе и загремел с гепатитом А. В болезни нет ничего прекрасного. Прекрасное можно было найти в людях, которые боролись с ней. В больнице много человеческого, гораздо больше, чем в обычной жизни. Словно сталкивается обнаженная плоть. Но ни один человек там не ищет романтики. Романтика остается где-то снаружи, в стихах поэтов и песнях поп-звезд. А эти люди просто живут. Они мечтают поскорее покинуть это место и никогда не возвращаться назад.
Сормовский диспансер
Тут мне сообщают, что врач принимает сегодня во второй половине дня, и у меня есть еще почти четыре часа свободного времени. «Жалко, но, может, оно и к лучшему. Вдруг меня упекут опять? И одну койку я сразу поменяю на другую. А так хоть домой съезжу». 15 минут в маршрутке, и я выхожу на своей родной улице. Все по-прежнему, ничего не изменилось с моего последнего визита. Светофор так же мигает, мамаши так же прячутся от дождя под зонтиками вместе с колясками, кошки так же сидят под крылечком, в подъезде так же не горит лампочка. «Даже немного обидно, что ничего не изменилось. То ли это я в душе жду, что меня тут якобы должны встречать как героя после того, что я пережил (даже несмотря на то, что никто об этом не знает), то ли я действительно отсутствовал не так уж и долго». Я доползаю до лифта, который все так же скрипит дверями в ответ. Только сейчас я понимаю, как устал. Кажется, еще один день в больнице добил бы меня окончательно. Я поворачиваю ключ в замке и нетерпеливо скидываю кроссовки. Вот я уже в прихожей, бросаю рюкзак на пол и кричу:
– Я дома!
В ответ – тишина. Дома никого нет.