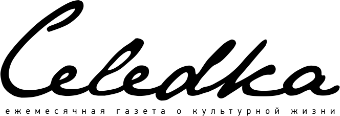"От каких слов мы убегаем "
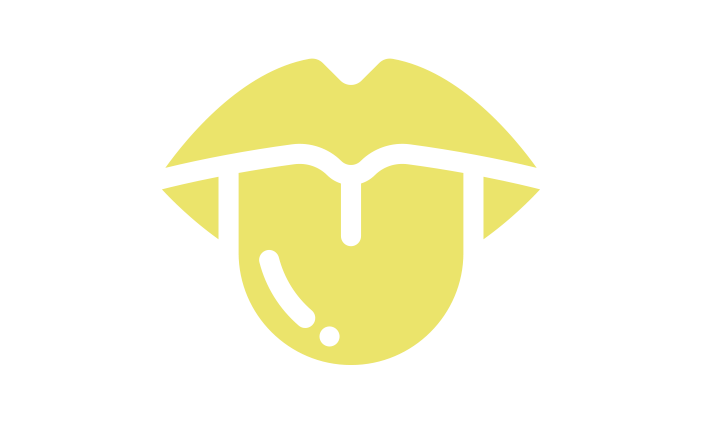
Ирина Фуфаева, научный сотрудник лаборатории социолингвистики РГГУ, – о том, что политкорректность, несмотря на все шуточки про вагинолюдей, не свалилась с неба, а имеет глубокие корни в языке
На споры о словах можно сейчас наткнуться где угодно.
Например, в невинном разговоре. Недавно ведущая башкирского радио, с которой мы беседовали, поделилась. Не успев закончить реплику: «Вы как женщина-водитель…» – услышала: «Не водитель, а водительница!» Теперь она слегка побаивается самой темы. Кто знает, на какой вариант обидится новая собеседница?
Может показаться, что страхи и сомнения при выборе слова, избегание старых плохих слов и создание новых хороших – это черта исключительно нашего времени и пресловутой политкорректности. Но нет. Такие страхи и сомнения очень древние, и они всегда влияли на язык и меняли его. Правда, и сами страхи менялись.
Как назвать страшного зверя? Прямым именем, в котором слышится его страшный рык? А вдруг он услышит, придет и задерет тебя? Лучше придумать новое имя, которого зверь еще не знает. Например: «тот, кто ест мед». Или просто «коричневый». Именно поэтому мы сейчас зовем зверя, которого уже почти не боимся, медведь, а англичане – bear (родственно русскому бурый).
Страх смерти не ушел из нашей жизни и продолжает порождать новые табу и эвфемизмы: например, крайний вместо последний. А во многих местах России в ответ на «Садись!» можно услышать что-то вроде: «Не садись, а присаживайся, сесть я всегда успею».
Страх смерти или чего-то почти столь же ужасного – первый страх, влиявший на языки.
Теперь о страхе втором.
Как назвать место, куда, как говорили в старину, даже царь пешком ходит? Какой бы эвфемизм, какое иносказание ни нашлось бы, оно все равно становится неприличным. Нужник, то есть всего-навсего «нужное место». Сортир, то есть невинное и даже гламурное французское sortir – «выйти». Не говоря уж о грубом русском отхожее место, за которым столь же невинное «отойти». Но главное не то, что слово неприличное, а то, что ты неприличен, если его произносишь открыто.
К счастью, очередное тоже сначала французско-гламурное туалет (как бы комната для поправки туалетов – нарядов), сменив аналогичное русское уборная (как бы место, где можно поправить убор, то есть опять же наряд), разомкнуло этот круг, став приличным, когда изменилось отношение к естественным человеческим потребностям, да и сами туалеты изменились.
Страшно не только быть убитым, но и быть неприличным, сказать что-то неприличное.
От страха быть неприличным до нового страха быть неэтичным – один шаг. И он лежит через иносказательные обозначения каких-то «неприличных», то есть обидных, характеристик человека. Национальности, возраста, внешности… И это явление возникло тоже задолго до политкорректности. Без всякой связи с политкорректностью в русском языке стали использоваться эвфемизмы пожилой, в летах, в возрасте, да и нынешнее возрастной вместо прямого «старый». Или полный вместо толстый.
В 90-е из английского в русский язык был заимствован термин «политкорректность» вместе с самим понятием об этой стратегии замены названий определенных групп людей специальными максимально нейтральными, «чистыми», правильными (correct) конструкциями.
До сих пор, четверть века спустя, и термин, и понятие сохраняют в России ауру чего-то чужого и сомнительного, чего-то посягающего на свободу волеизъявления, а еще – смешного и нелепого. Бесконечно пересказываются мифы про «вагиноамериканцев» и «родителя № 1». При этом никто из носителей русского языка не отстаивает право пользоваться вместо эвфемизмов в вежливой речи словами, которое общество считает бестактными, типа того же «толстый». Да даже какие-нибудь несчастные прыщи сейчас почти всегда называют заимствованным и научно звучащим акне, и это совершенно никого не удивляет.
Но действительно ли русский язык не собирается меняться под влиянием страха – или нежелания – быть неэтичным? Утверждать так нельзя. Вот хотя бы словосочетание «люди с ограниченными возможностями» в язык вполне вошло и используется уже около 20 лет, в том числе в бюрократическом стиле, и не ощущается чужеродным. Хотя и предыдущее инвалид вполне функционирует, в том числе как самоназвание.
Или взять новейшую историю русских обозначений человека по его сексуальной ориентации. «Медицинская» форма на -ист гомосексуалист довольно легко за несколько лет вытеснилась более «политически корректной» – гомосексуал (от англ. homosexual – гомосексуальный).
Сама по себе общая тенденция гуманизации, безусловно, есть, и она проявляется в русском языке, в том числе совпадая с политкорректными заменами, если у них есть какая-то дополнительная поддержка, например чисто лингвистическая. Например, гомосексуал элементарно короче на один слог, а принцип экономии речевых усилий никто не отменял.
В некоторых же случаях попытка объявлять неполиткорректные обозначения оскорбительными даже несколько избыточна. Например,часть людей, особенно общественные активисты, слово бомж считают частью языка ненависти, оскорбительным и унизительным. Как известно, бомж по происхождению – аббревиатура от бюрократически-милицейского выражения «без определенного места жительства», а сейчас просто слово разговорной речи. Из этой самой разговорной речи его требуют изгонять и заменять на более политкорректное бездомный. Интересно, что в данном случае политкорректным является одновременно и самое прямое обозначение, а не какое-нибудь нагромождение слов. Но это не случайно. Как не случайно и то, что и неформальное бомж вовсе не обнаруживает признаков пейоратива, оскорбительного названия. Его публичное использование скорее говорит о невладении политкорректным этикетом, чем о намерении оскорбить и расчеловечить: «Бомжи не от хорошей жизни в подъезды прячутся, а от холода». Но самое главное даже не такие реальные контексты, а то, что люди могут называть себя этим словом сами. А это надежный признак того, что слово не обидное: «…Прихожу я с училища, и мне говорят, что я здесь не живу... С тех пор и стал я бомжом». Человек может назвать себя бомжом и метафорически, жалуясь на свою неприкаянность. Получается, что, по данным языка, к людям, не имеющим дома, мы относимся, в общем, неплохо.
Конечно, главное – не слово, а отношение. Ограниченность стратегии политкорректности, собственно, унаследована от древней языковой стратегии отгораживаться от страхов с помощью эвфемизмов. Пока страх сохраняется, эвфемизмы приходится обновлять. Но если мы перестали бояться медведя, его название может использоваться сколь угодно долго.
За появлением эвфемизмов «про людей» стоит не просто страх неэтично назвать какую-то группу, но и наличие в сознании или подсознании перегородок между нами, нормальными, и ими, ненормальными, для которых нужны особые слова. С перегородками политкорректность не работает. Политкорректное, вежливое обозначение людей по цвету кожи нужно там, где для общества очень важен этот самый цвет кожи, социально важен, а не так, как в каком-нибудь Эквадоре, где ты можешь быть любого оттенка, и это не влияет на отношение к тебе мира. Политкорректное, вежливое обозначение пожилых людей нужно там, где возраст страшит.
А вот история с башкирской водительницей показала, что феминитивы перестали быть повесткой столичных активистов. Когда питерские феминистки в расчете на сетевой хайп называют напитки в сепаратном женском кафе латессой и какаиней – это просто шутка, а не факт языка. Когда девушка из провинциального города в обычном разговоре требует, чтобы ее называли специфически женским обозначением, – это уже показатель реальных изменений языка. Вот только никакого согласия у россиянок – «как корректнее» – не наблюдается. Наоборот, полное разнообразие и текучесть. То и дело легко услышать мнение, подобное высказанному Екатериной Н.: «Когда меня кто-то называет "художница", я свирепею и вежливо прошу более ко мне это слово не применять». Короче, в этой сфере русский язык сейчас на перепутье. Готов как шагнуть в гендерную нейтральность: «Моя врач назначила меня на среду», – так и вернуться к традиционным и скрепным (да-да!) словам «только для женщин», которые из разговорной речи и не уходили: «Риэлторша советует не тянуть».