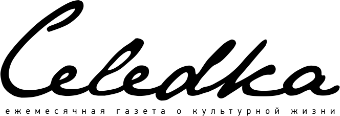"«Важно для себя решить, борешься ты за жизнь или борешься против смерти» "

Врач-реаниматолог Артем Бородкин – о страхе смерти, конфликте с высшими силами и причинении добра
Интервью: Виталия Голованова
Фото: Илья Большаков
– Как давно вы в специальности и почему именно в этой? Она же более экстремальная, чем, например, терапевт или дерматолог. Адреналиномания?
– В специальности я уже девять лет. В какой-то степени, наверное, и из-за адреналина. Когда мне предлагают уйти на менее ответственную и экстремальную работу, я говорю, что пока здесь решаю те задачи, которые другие, видимо, решать не могут или не хотят. А я хочу, мне эта работа нравится. Тут все просто: если ты делаешь все правильно, пациенту становится лучше. Да, есть моменты, когда всем понятно, что лучше пациенту уже не станет, но все равно хочется потягаться со смертью. Но вообще реаниматология – это одна из самых незаполненных областей в медицине, ощущается дефицит кадров. Слишком большая ответственность, а благодарности мало, ведь пациент либо не помнит ничего, либо воспоминания крайне неприятные, что логично.
– Как вы относитесь к неудачным попыткам спасти пациента? Что-то изменилось в восприятии за годы практики?
– В реанимацию я первый раз попал на студенческой практике после второго курса, когда тебе доверяют только полы мыть и выносить утки за больными. Я захотел из любопытства остаться на ночное дежурство. В ту ночь как раз случилось несколько летальных исходов, причем диаметрально противоположных: с одной стороны, двадцатипятилетний парень; с другой – столетняя бабушка. Вокруг парня собралась толпа врачей, которые делали все возможное, и, хотя по стандартам реанимацию можно заканчивать через тридцать минут, если нет результатов, они его оживляли больше часа. Сразу было понятно, что это летально, но для меня все равно было странным, что у врачей ничего не вышло. Он же молодой! Как же так?
При этом, когда умирала бабушка, подошел врач, как будто понюхал воздух, сказал, что смерть пришла и через два часа все закончится. Так и было, на фоне всего лечения бабушка тихо и спокойно угасла, и никто не превратил ее палату в поле боя.
Поначалу я пытался вытаскивать всех. Но с годами откалибровался, выработалось понимание, когда нет смысла выходить за рамки протокола и переводить пациентов в разряд долго умирающих. Но первые два-три года было очень тяжело.
– Что сложнее: реанимировать человека или общаться с его родственниками?
– Первое я практикую каждый день. Меня этому учили в университете, я изучаю профессиональную литературу, обмениваюсь опытом с коллегами. Но общению с родственниками, работе с регулярной агрессией в нашу сторону никто не учил. Хотя именно ты сообщаешь людям какие-то глобальные новости. Мало того, что им может не понравиться услышанное, это ведь еще надо как-то объяснить, не пересказывая курс человеческой анатомии. Да и вообще, всегда нужно помнить, что все сказанное и сделанное может быть использовано против тебя. Доходило до абсурда, ты плюешь через левое плечо, мол: «Тьфу-тьфу-тьфу, все хорошо», – а в жалобе читаешь, что плюнул пациенту под ноги. Или, поддавшись уговорам родственников, пускаешь их к пациенту, а потом читаешь, что «переливал ему его же мочу». Там же не было написано большими буквами «ПЛАЗМА», а цвет желтый, в голове все сошлось. Причем врачу направляются абсолютно любые претензии, вплоть до того, почему в больнице разруха и бумаги в туалете нет. Ну, и еще сложнее, конечно, разговаривать с ними про смерть. Это отдельная тема, которая никак не регулируется ни на моральном, ни на правовом уровне.

– Вас это часто напрямую касается?
– В основном это всплывает в работе с хроническими больными, когда я как врач понимаю, что у человека уже просто очень длинная агония, которая может растянуться на две, три, пять недель, но лучше ему не станет. Будут только мучения. В медицинском сообществе есть понятие «активной эвтаназии», когда пациент говорит: «Все, я больше не могу». Это не отрегулировано нигде, кроме Голландии и пары американских штатов. Но есть надежда, что все изменится в ближайшие годы. А есть еще пассивная эвтаназия, когда все по уговору просто дают возможность человеку уйти. Но это вообще сверхтабуированная вещь. Из всех близких и родственников пациентов один на сотню может сказать: «Мы все понимаем, бабушка старенькая, мы готовы ее отпустить». Остальные будут пытаться тянуть дальше. Парадоксально, что люди, живущие в христианской морали, обещающей прекрасную загробную жизнь и утверждающей, что смерти бояться не нужно, готовы делать все, лишь бы не умирать и не позволять умереть тем, кто и сам уже готов.
– Лично вы как относитесь к вопросам души, загробной жизни и прочей эзотерики?
– На самом деле вся современная медицина находится в какой-то переходной фазе. У многих врачей иконы в ординаторской, у некоторых это доходит до каких-то вычурных церемоний, кто-то тихонько перекрещивает пациента, прежде чем начать операцию. Во множестве больниц сейчас есть часовни. Это, конечно, больше нужно пациентам, но и врачи иногда тоже пользуются. Что касается существования души – для меня все существует. Физическим планом точно не ограничивается. Даже если пациент без сознания и на физическом уровне ничего не чувствует, он все равно страдает, а мы зачастую эти страдания продлеваем. Поэтому важно для себя решить, борешься ты за жизнь или борешься против смерти. Это разные вещи, хоть со стороны и выглядят одинаково.
Но посещение реанимации священнослужителями на каких-то особых правах меня, конечно, не радует. Там не до священников и вообще не до посетителей. Иногда доходит до смешного, что священник, например, придя к одному пациенту, заодно обходит всю палату и всем протягивает свой крест для поцелуя. А никто не хочет поинтересоваться их вероисповеданием? Такие вот забавные попытки причинить добро.
В Москве вообще есть клиника Святителя Алексия, в телевизионном сюжете об этом учреждении священник-реаниматолог стоял в медицинском халате, но с распятием на груди. Мне кажется, это совмещение абсолютно противоположных функций. Задача священника – отпустить грехи и облегчить последние минуты человека. Задача реаниматолога – упереться и не дать пациенту умереть.
– Бывало, что уход в мир иной кого-то из очень неприятных пациентов вы воспринимали если не с радостью, то хотя бы с облегчением?
– Я иногда так воспринимаю их отъезд домой. Потому что у неприятного пациента могут найтись еще более неприятные родственники, и его смерть будет не концом моих мучений, а только началом. Но я одинаково хочу не дать умереть и законопослушным гражданам, и дебоширам-алкоголикам. Да, возможно, я спас человека, который вернется из больницы и продолжит вскрывать машины и вынимать из них магнитолы. У меня, кстати, вынимали, но какая разница? Как говорится, Господь признает свободу воли человека, и я вынужден признать.
– Вы лоббируете принятие смерти, а со своими родственниками и знакомыми об этом разговариваете?
– Да, но это, конечно, сложно. Понимание естественности смерти людям дается очень тяжело, и мне самому тоже. Если я с этим столкнусь, скорее всего, тоже пройду через все стадии принятия горя. Что говорить о родственниках и близких, если я смерть собаки принять не мог? Точнее, я понимал, что собака умирает; я сделал все, что от меня зависело; но это происходит, несмотря на то что ей всего шесть лет. Я не понимал, почему это происходит со мной? В тот момент я был в серьезном конфликте с высшими силами: я, значит, сутками живу в больнице и спасаю людей, а со мной вот так обошлись? Серьезно? За что? Но будем честны: никто со мной договор никакой не заключал и не обещал вечное счастье и неприкосновенность взамен на мою работу. Сам выбрал, никто не просил. Врачи вообще, кажется, извращенцы в этом плане. Нормальный человек же когда удовольствие испытывает? Когда ему хорошо. А врач? Когда хорошо пациенту, то есть другому человеку. И пострадать ради этого можно, и подежурить несколько суток в больнице.
Мне до сих пор непонятно, почему тема умирания по-прежнему табуирована. Когда-то, кажется, The Village выпустили статью о рынке ритуальных услуг с заголовком «Все там будем» – столько было потом негатива на этот счет. А что, не так, что ли? Кто-то здесь бессмертен? А если нет, не хотите ли вы быть готовы к тому, что вас потом ждет? Да, окей, вы умерли и с этой проблемой уже не столкнетесь, но столкнутся ваши родственники. Это им потом искать услуги на рынке, где все их будут пытаться обмануть и ободрать. Мы готовы говорить обо всяких извращениях по федеральным каналам, хотя проблемы проституток или гомосексуализма касаются не каждого. Но при этом о фундаментальных вещах, которые точно коснутся всех, предпочитаем молчать. Болезни могут коснуться каждого. ВИЧ может коснуться каждого. Не надо думать, что это проблема только героиновых наркоманов, которые колются одним шприцем. Таких уже почти не осталось. В основном сейчас пациенты с ВИЧ получили его через незащищенный сексуальный контакт. Но если в девяностые еще можно было увидеть по телевизору рекламу о том, что надо предохраняться, сейчас мы что видим? Глупые плакаты о том, что ВИЧ не передается через дружбу. А о том, как же он все-таки передается, и о том, что никто не застрахован, мы почему-то молчим. Общество не хочет об этом говорить, потому что это неприятно. Оказавшись в определенных условиях, люди ищут способ разрешения внутреннего конфликта, руководство. На эту тему написано немало книг, но все они столь объемные и непростые к прочтению, что многие предпочитают их просто не касаться и поискать более легкий пусть в брошюре на двадцать страниц, а там его нет. Об этом надо говорить намного раньше и чаще.