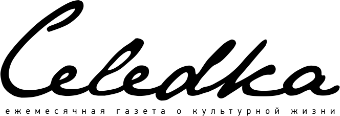"Российское поэтическое сообщество сегодня крайне разобщено"
 Кандидат филологических наук, литературтрегер, куратор поэтических фестивалей Евгений Прощин и литературный критик, руководитель «Института книги» Александр Гаврилов – о развитии поэзии в столице, провинции и России в целом
Кандидат филологических наук, литературтрегер, куратор поэтических фестивалей Евгений Прощин и литературный критик, руководитель «Института книги» Александр Гаврилов – о развитии поэзии в столице, провинции и России в целом
Прощин: – В начале десятилетия поэзия в России развивалась очень оптимистично: та же премия «Дебют» задавала определенный темп, однако нынешнее состояние более близко к стагнации.
Гаврилов: – Сегодня культура в целом потеряла любое развитие, и это касается не только изящных искусств, но и политической культуры. Мы сейчас примерно в той общественной ситуации, которая была в середине XIX века. Не случайно после всяких прекрасных Фетов и Тютчевых общественное внимание захватил Некрасов, при том что непосредственно поэтическая техника упала на три порядка. Тут встает вопрос: обязан ли поэт делать то, чего требует время? Мы об этом говорили в конце прошлого сезона в программе «Вслух» с поэтом Ольгой Седаковой. Все напихались в большую аудиторию политеха и начали бубнить о том, что это историческое место, где поэты отвечали за дух времени. Ольгу Александровну это страшно разозлило, и она сказала, что поэт – это не тот, кто отражает дух времени, поэт – тот, кто называет время, кто должен двигаться поперек, а не делать то, что положено. И если все рассказывают истории, то поэт должен позволять себе прекрасные восклицания. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, знаменует конец языковой школы.
Прощин: – А ведь оказалось, что в итоге некие внешние параметры, которые легко схватываются, начинают разрабатывать очень мощный графоманский ресурс – это я как филолог рассуждаю.
Гаврилов: – Но ведь это неизбежно.
Прощин: – Актуальное противопоставляется чему-то широкому в плохом смысле слова: дескать, вот есть мертвый язык, а есть язык, который современен, потом мы приходим к тому, что этот язык совершенно легко освоить. Как, например, было с символизмом: достаточно было выучить несколько слов, чтобы текст казался мистически-загадочным.
Гаврилов: – Преодоление складывания собственного языка – обязательный этап для любого поэтического поколения, без этого преодоления, отторжения предшественников не возникает поэта, не говоря уже о направлении. У Харольда Блума есть замечательная книга под названием «Страх влияния» – она как раз об этом. Большой поэт возникает в тот момент, когда он преодолевает всех предшествующих поэтов. Мне кажется, что противопоставление традиционной и актуальной поэтики осталось в прошлом, даже в позапрошлом. Если говорить об этих прослойках, то ни в какое новое пространство мы не выйдем. Вот, предположим, очень живой поэт Андрей Родионов, он что, работает в традиционной прослойке?
Прощин: – Он работает в прослойке Серебряного века.
Гаврилов: – Конечно, но разговор ли это о традиции? Если да, то о какой? Людей, ничего не прочитавших после школьной программы?
Прощин: – Я говорю об ощущении ложной традиции, которая идет от советской эпохи, когда поэты писали неотличимо от XIX века: четырехстопный ямб, чередование мужской и женской рифмы, четыре строки в строфе. И это выглядело именно преемственностью. Сегодня ситуация сложнее: дело в том, что на прежнее противопоставление наслоилась еще куча языков, начиная с виртуального пространства и заканчивая рок-музыкой. Молодые люди считают, что тексты песен можно писать и подавать как стихи, сейчас это общая тенденция. Традиционного противопоставления найти нельзя, но размывается само ощущение стиля в классическом понимании. В актуальной поэзии сейчас можно частично понять язык, наложить на него массово-культурные контексты и увидеть, как он хорошо начнет сам себя имитировать. Например, Полозкова, стиль которой, с точки зрения лингвистики, ничего в себе не несет. Она подбирает тенденции 1990-х годов, при этом совершенно четко угадывается, откуда это все берется, но темы избирает одни и те же: страдания некоей девушки, у которой что-то там неладно с личной жизнью. Проекции на эту тему никакой не возникает, она со стороны на ситуацию не смотрит – типичный пример дилетантского искусства, которое само на себе замкнуто. Меня интересует, почему актуальная поэзия слилась к условной Полозковой, которая оказалась максимально уместной, максимально популярной среди своих читателей, точнее, читательниц, которым больше ничего не нужно.
Гаврилов: – Неправильно, когда у поэзии есть совершенно разные системы внешней оценки. Странным образом получается, что мы предъявляем идеальному поэту довольно широкий список критериев, которым он должен удовлетворять. Во-первых, это широкая популярность; во-вторых, ясность любому носителю бытового русского языка; в-третьих, обыкновенная продвинутость в его собственном понимании языка и так далее. В конце концов, мы конструируем такого странного кентавра, который говорит одновременно и с извозчиком, и с профессором. Таких не бывает! Мы знаем, что Александр Александрович Блок читал стихи проституткам, но нравилось ли это им – мы не знаем. Мне кажется, что его популярность у студентов и огромное раздражение взрослой читающей публики нельзя спутать ни с чем другим. Достаточно посмотреть на раздраженные пародии на Блока того времени, абсолютно издевательские рецензии. Я узнаю эту интонацию глухого раздражения: мол, нам, серьезным людям, подсовывают эти подростковые задротские штучки, а мы что, должны всерьез об этом думать? Другое дело, что Блок попал в довольно странную исторически невыгодную ни для кого ситуацию, когда общество стремительно помолодело, и вчерашние студенты немедленно перенеслись на вершины карьерных лестниц. Его читатели были еще при его жизни вершителями исторических судеб стран. Все это – история о том, как быстро читатель становится влияющим на судьбы миров, а не о том, как поэт выражает чаянья всех. И вообще – кто они, эти «все»? Понятно, что читающее сообщество, извозчики-то не читают.
Прощин: – Вот дурацкий вопрос: как вы думаете, поэзия должна находить свою аудиторию, если аудиторию понимать как собрание большого количества людей? Пример: один раз в два года проходит Биеннале поэтов в Москве, которое отличить от сезонных мероприятий почти невозможно: так же сгущены события, те же люди, из которых 80 % поэты и друзья поэтов. Событие большое, при этом особых информационных выхлопов не дает. Зачем это проводить тогда, если нет аудитории?
Гаврилов: – Понимаю, еще раз повторю: мы предъявляем к поэту сегодня совсем разные критерии оценки: ты, пожалуйста, голубчик, рой вглубь, но так, чтобы снаружи было видно, а ты, пожалуйста, работай-ка для рафинированной публики, но так, чтобы грузчик мог понять. Мне представляется, что российское поэтическое сообщество необъяснимо фрагментированно. Попробуйте какого-нибудь поэта, пишущего на бумажке, посадить рядом с поэтом, который поет свои стихи под гитару. И все будет видно. Поскольку поэтическое сообщество является мнимым, внешне наблюдаемым сообществом людей, создающих совокупный поэтический текст эпохи, но разбитым на миллион каких-то комнат и коридоров. Я однажды оказался в городе Пномпене в Камбодже, и у них там есть такой замечательный объект, который они не тронули, а музеефицировали: частная школа, очень приличный лицей, который был превращен в тюрьму для политических заключенных. Это очень хорошо построенная школа, мне как бывшему учителю было приятно ходить по ней, я понимал, как она задумана, но она была вся нарезана на такие фанерные свинарнички, в большей части которых человек даже не может встать на две ноги. Туда запихивали человека, ждали, пока у него кончатся силы, потом вытаскивали и, поскольку расстреливать такое количество людей экономически невыгодно, заколачивали в голову гвоздь. Там даже есть галерея черепов с дырками от гвоздей. Когда я думаю о российском поэтическом сообществе, то все время вспоминаю эту школу. Если бы поэты нашли в себе силы выбраться из этих свинарничков, встать на две ноги, подойти друг к другу, им бы реже заколачивали в голову гвозди.
Прощин: – Есть же много проектов, та же «Литкарта», которые заявляли о создании некоего единого пространства, в котором столица и провинция сливаются в экстазе. Но «Литкарта», кстати, мертвый проект.
Гаврилов: – Абсолютно.
Прощин: – Он не индексируется почти, малопосещаем…
Гаврилов: – И он мертвый не потому, что в нем кончились деньги, а именно потому, что он попытался идти поперек культурной и политической ситуации. А политическая и культурная ситуации ничем друг от друга не отличаются, они выглядят именно так, что люди разъединены.
Прощин: – И все-таки, может ли провинция быть понята как наличие разных культурных пространств или она до сих пор остается чем-то неопределенным?
Гаврилов: – Ну, смотрите. Та обида, которая постоянно транслируется любыми провинциальными активистами по отношению к столице, исходит из предположения, что в столице существует свой автономный культурный продукт, а в провинции он неосознан. При этом на самом деле в столице не существует никакого автономного культурного продукта, там существует достаточный объем культурного спроса. Скажем, когда мороженого сига, купленного за бесценок в какой-нибудь северной республике, привозят в Москву и не только дорого продают, но и богато подают с соусом и гарнирами, должны ли все остальные сиги в этот момент его ненавидеть и предполагать в нем выскочку, который оправдался столичным культуртрегером? Вопрос не в том, что один из них прожил другую жизнь в быту и кулинарии, а в том, что существует разный потребитель. И если мы посмотрим на ту культуру, что из провинции кажется столичной, то мы обнаружим, что ее генезис, конечно, лоскутный. Мы все еще на живую современную ситуацию накладываем логику XIX века, когда в центре живут белые люди, несущие культурную ценность, а на окраине живут папуасы, которых белые люди просвещают, несут свою центровую культуру. Но ведь этого больше нет. Не существует белых людей.
Прощин: – Десять лет назад в Нижнем Новгороде эта ситуация была четко видна. В город приехал проект, создатели которого организовывали лекции про видеоарт, рассказывали разное – вот, ребят, есть такой Энди Уорхол. Я был тогда моложе и знал меньше, но я думал: я знаю, кто такой Энди Уорхол и что такое видеоарт. А это был такой ликбез, даже не просвещенченство, именно ликбез.
Гаврилов: – Мне кажется, важно понять, что современная культура центра на самом деле сложена интервенциями окраины, а не наоборот. Модель «столица – поставщик культурного контента» не работает, она тупиковая.
Прощин: – Такой вопрос: когда мы говорим о русской прозе, – кажется, с поэзией дело все-таки получше обстоит, – есть ощущение, что она происходит где угодно, только не в России. А почему тогда русская проза так связана с большим количеством поощрительных проектов, премий и прочее? О прозаиках много говорят, а поэты имеют премию Андрея Белого и еще ряд каких-то, чьи названия можно вспоминать, но большинство из которых свою функцию уже давно не выполняют.
Гаврилов: – Давайте подумаем, что такое все эти поощрительные системы. Не существует никакого поставщика контента только в России, зато существует потребитель контента, сконцентрированный в индустриальных центрах страны. Поэтому часто мы путаем историю писателя и историю читателя. Строго говоря, где пишется русская проза – это история писателя, и пишется она в странных местах: лучшая книга прошлого года «Лавр» Евгения Водолазкина написана в Институте русской литературы, в Пушкинском доме, от которого давно перестали ждать чего-то хорошего. А лучшая книга предыдущего года «Синяя кровь» написана редактором издательского дома «Коммерсантъ» – человеком, который рерайтит чужие статьи и от которого мы точно никак не ждали великой русской литературы. Дальше начинается история читателей, то есть не только «где написано», но и «где прочитано». В России эта история совершенно отсутствует, и меня чем дальше, тем больше это тяготит. Ведь для того чтобы понять, почему это было влиятельно, мы должны понимать, среди кого это было влиятельно. И в этом смысле современный премиальный процесс вообще не является отражением генеративных процессов: это не процесс создания литературы, это процесс чтения. Мне очень симпатична премиальная теория, согласно которой премия – это вторичное вознаграждение. Существует книжный бизнес, он на своей территории, читатель почитывает, писатель пописывает… То, что он, кажется, в России закончился – это отдельная песенка.
Прощин: – В силу перехода к электронным формам?
Гаврилов: – Ну нет, в силу того что та советская инфраструктура, которую пытались приватизировать, оказалась неработоспособной, а никакой другой инфраструктуры уже не создать. В этом смысле книжный рынок мало чем отличается от энергосистем. Или дорог.
Прощин: – То есть, по сути, премии компенсируют недостатки книжного бизнеса?
Гаврилов: – Книжный бизнес – быстрая вещь, культура гораздо более медлительна. В тот момент, когда книжка уже сто раз кончилась на складе, писатель думает, что его никто не читал, издатель думает, зачем он издавал этого придурка, книготорговцы вовсе думать забыли об этой книге, – в этот момент читатели только начинают процесс обсуждения, выстраивания вокруг книги какого-то нового языка. И единственный инструмент, который есть у них в руках, – это инструмент премиальный. Они могут сказать: мы благодарны писателю М. за то, что он смог написать эту книжку, и нашу благодарность выражаем таким образом. Когда понятно, кто эти «мы», тогда премия работает хорошо, когда непонятно – плохо. В этом смысле премия Александра Невского за лучшее изображение сотрудников органов государственной безопасности в художественной литературе работает лучше, чем премия «Русский Букер», потому что там «мы» очень понятны, а здесь – довольно размыты.
Прощин: – Я что-то не слышал про премию Александра Невского.
Гаврилов: – Ну как же! Может быть, потому что вы не входите в те «мы», которые остро заинтересованы в изображении образа?
Прощин: – В таком случае зачем вообще нужны литературные премии? Чтобы читатель сориентировался в именах? Если эти премии сами себя концептуально не обеспечивают, то что они делают? Это может быть полезно для истории, и только.
Гаврилов: – Мы же не можем велеть с сегодняшнего дня никому больше не учреждать премии. Являются ли они значимым элементом современной культуры? Какие-то являются – какие-то нет. Являются те, в которых это «мы» – ясное и широкое понятие. Почему премия Андрея Белого была так влиятельна вначале и так неочевидна сегодня? Потому что раньше ее коллективный субъект был совершенно ясен, сегодня же он, мягко говоря, размыт.
Прощин: – Последний вопрос. Какие книжно-литературные проекты последних лет можно считать в России удавшимися?
Гаврилов: – Самый успешный проект такого рода – проект Дмитрия Кузьмина «Вавилон», сделанный с абсолютным нулем ресурсов и ставший навязчивой идеей трех поколений деятелей русской поэзии. Понятно, что все Союзы писателей, премиальные процессы и прочая хрень на палке – все вместе против него слабаки. Я не всегда и не во всем согласен с ним по поводу эстетического наполнения этого проекта, но это неважно.
Прощин: – А помимо Кузьмина?
Гаврилов: – Это, безусловно, премия «Дебют» – прекрасная и страшно своевременная идея Липскерова. Там была допущена одна очень серьезная ошибка: премия изменила своей ясности в очертании поля. «Дебют» – это премия-привратник. Но скучно 15 лет стоять у врат, отворять их для одних и затворять за другими, поэтому спонсоры потребовали, чтобы премия делала что-то еще. И это было ошибкой – согласиться на это.
Прощин: – Еще что-нибудь?
Гаврилов: – Премия «Большая книга», которую я оцениваю очень высоко, она, правильно осознав имеющиеся в культуре проблемы, теперь их решает. Для того чтобы обеспечить ясное высказывание коллективного субъекта, сперва начали создавать этот коллективный субъект. Вообще возможность существования некоторой площадки, которая обеспечивает иллюзию культурного диалога между олигархами и издателями толстых литературных журналов, – большое дело, серьезно. Никакие кино- или театральные премии и рядом с этим не стояли. Остальные проекты, которые мне видятся влиятельными, очень персональны. Например, существует такой редактор, как Елена Даниловна Шубина, чья работа в книгоиздании стоит дороже всей остальной работы с русской прозой. Сначала она была редактором в «Вагриусе», и там была лучшая русская литература, потом перешла в «АСТ», сейчас появилась ее собственная редакция, которая издает то, что просто нужно читать. Это отдельно стоящая литературная институция в лице отдельно взятого литературного человека. Посмотрите, какие разноформатные продукты мы называем: от «Большой книги» до отдельно взятого редактора в чистом поле. В сегодняшней русской культуре возможно все что угодно.
Гаврилов: – Сегодня культура в целом потеряла любое развитие, и это касается не только изящных искусств, но и политической культуры. Мы сейчас примерно в той общественной ситуации, которая была в середине XIX века. Не случайно после всяких прекрасных Фетов и Тютчевых общественное внимание захватил Некрасов, при том что непосредственно поэтическая техника упала на три порядка. Тут встает вопрос: обязан ли поэт делать то, чего требует время? Мы об этом говорили в конце прошлого сезона в программе «Вслух» с поэтом Ольгой Седаковой. Все напихались в большую аудиторию политеха и начали бубнить о том, что это историческое место, где поэты отвечали за дух времени. Ольгу Александровну это страшно разозлило, и она сказала, что поэт – это не тот, кто отражает дух времени, поэт – тот, кто называет время, кто должен двигаться поперек, а не делать то, что положено. И если все рассказывают истории, то поэт должен позволять себе прекрасные восклицания. Мне кажется, что то, о чем вы говорите, знаменует конец языковой школы.
Прощин: – А ведь оказалось, что в итоге некие внешние параметры, которые легко схватываются, начинают разрабатывать очень мощный графоманский ресурс – это я как филолог рассуждаю.
Гаврилов: – Но ведь это неизбежно.
Прощин: – Актуальное противопоставляется чему-то широкому в плохом смысле слова: дескать, вот есть мертвый язык, а есть язык, который современен, потом мы приходим к тому, что этот язык совершенно легко освоить. Как, например, было с символизмом: достаточно было выучить несколько слов, чтобы текст казался мистически-загадочным.
Гаврилов: – Преодоление складывания собственного языка – обязательный этап для любого поэтического поколения, без этого преодоления, отторжения предшественников не возникает поэта, не говоря уже о направлении. У Харольда Блума есть замечательная книга под названием «Страх влияния» – она как раз об этом. Большой поэт возникает в тот момент, когда он преодолевает всех предшествующих поэтов. Мне кажется, что противопоставление традиционной и актуальной поэтики осталось в прошлом, даже в позапрошлом. Если говорить об этих прослойках, то ни в какое новое пространство мы не выйдем. Вот, предположим, очень живой поэт Андрей Родионов, он что, работает в традиционной прослойке?
Прощин: – Он работает в прослойке Серебряного века.
Гаврилов: – Конечно, но разговор ли это о традиции? Если да, то о какой? Людей, ничего не прочитавших после школьной программы?
Прощин: – Я говорю об ощущении ложной традиции, которая идет от советской эпохи, когда поэты писали неотличимо от XIX века: четырехстопный ямб, чередование мужской и женской рифмы, четыре строки в строфе. И это выглядело именно преемственностью. Сегодня ситуация сложнее: дело в том, что на прежнее противопоставление наслоилась еще куча языков, начиная с виртуального пространства и заканчивая рок-музыкой. Молодые люди считают, что тексты песен можно писать и подавать как стихи, сейчас это общая тенденция. Традиционного противопоставления найти нельзя, но размывается само ощущение стиля в классическом понимании. В актуальной поэзии сейчас можно частично понять язык, наложить на него массово-культурные контексты и увидеть, как он хорошо начнет сам себя имитировать. Например, Полозкова, стиль которой, с точки зрения лингвистики, ничего в себе не несет. Она подбирает тенденции 1990-х годов, при этом совершенно четко угадывается, откуда это все берется, но темы избирает одни и те же: страдания некоей девушки, у которой что-то там неладно с личной жизнью. Проекции на эту тему никакой не возникает, она со стороны на ситуацию не смотрит – типичный пример дилетантского искусства, которое само на себе замкнуто. Меня интересует, почему актуальная поэзия слилась к условной Полозковой, которая оказалась максимально уместной, максимально популярной среди своих читателей, точнее, читательниц, которым больше ничего не нужно.
Гаврилов: – Неправильно, когда у поэзии есть совершенно разные системы внешней оценки. Странным образом получается, что мы предъявляем идеальному поэту довольно широкий список критериев, которым он должен удовлетворять. Во-первых, это широкая популярность; во-вторых, ясность любому носителю бытового русского языка; в-третьих, обыкновенная продвинутость в его собственном понимании языка и так далее. В конце концов, мы конструируем такого странного кентавра, который говорит одновременно и с извозчиком, и с профессором. Таких не бывает! Мы знаем, что Александр Александрович Блок читал стихи проституткам, но нравилось ли это им – мы не знаем. Мне кажется, что его популярность у студентов и огромное раздражение взрослой читающей публики нельзя спутать ни с чем другим. Достаточно посмотреть на раздраженные пародии на Блока того времени, абсолютно издевательские рецензии. Я узнаю эту интонацию глухого раздражения: мол, нам, серьезным людям, подсовывают эти подростковые задротские штучки, а мы что, должны всерьез об этом думать? Другое дело, что Блок попал в довольно странную исторически невыгодную ни для кого ситуацию, когда общество стремительно помолодело, и вчерашние студенты немедленно перенеслись на вершины карьерных лестниц. Его читатели были еще при его жизни вершителями исторических судеб стран. Все это – история о том, как быстро читатель становится влияющим на судьбы миров, а не о том, как поэт выражает чаянья всех. И вообще – кто они, эти «все»? Понятно, что читающее сообщество, извозчики-то не читают.
Прощин: – Вот дурацкий вопрос: как вы думаете, поэзия должна находить свою аудиторию, если аудиторию понимать как собрание большого количества людей? Пример: один раз в два года проходит Биеннале поэтов в Москве, которое отличить от сезонных мероприятий почти невозможно: так же сгущены события, те же люди, из которых 80 % поэты и друзья поэтов. Событие большое, при этом особых информационных выхлопов не дает. Зачем это проводить тогда, если нет аудитории?
Гаврилов: – Понимаю, еще раз повторю: мы предъявляем к поэту сегодня совсем разные критерии оценки: ты, пожалуйста, голубчик, рой вглубь, но так, чтобы снаружи было видно, а ты, пожалуйста, работай-ка для рафинированной публики, но так, чтобы грузчик мог понять. Мне представляется, что российское поэтическое сообщество необъяснимо фрагментированно. Попробуйте какого-нибудь поэта, пишущего на бумажке, посадить рядом с поэтом, который поет свои стихи под гитару. И все будет видно. Поскольку поэтическое сообщество является мнимым, внешне наблюдаемым сообществом людей, создающих совокупный поэтический текст эпохи, но разбитым на миллион каких-то комнат и коридоров. Я однажды оказался в городе Пномпене в Камбодже, и у них там есть такой замечательный объект, который они не тронули, а музеефицировали: частная школа, очень приличный лицей, который был превращен в тюрьму для политических заключенных. Это очень хорошо построенная школа, мне как бывшему учителю было приятно ходить по ней, я понимал, как она задумана, но она была вся нарезана на такие фанерные свинарнички, в большей части которых человек даже не может встать на две ноги. Туда запихивали человека, ждали, пока у него кончатся силы, потом вытаскивали и, поскольку расстреливать такое количество людей экономически невыгодно, заколачивали в голову гвоздь. Там даже есть галерея черепов с дырками от гвоздей. Когда я думаю о российском поэтическом сообществе, то все время вспоминаю эту школу. Если бы поэты нашли в себе силы выбраться из этих свинарничков, встать на две ноги, подойти друг к другу, им бы реже заколачивали в голову гвозди.
Прощин: – Есть же много проектов, та же «Литкарта», которые заявляли о создании некоего единого пространства, в котором столица и провинция сливаются в экстазе. Но «Литкарта», кстати, мертвый проект.
Гаврилов: – Абсолютно.
Прощин: – Он не индексируется почти, малопосещаем…
Гаврилов: – И он мертвый не потому, что в нем кончились деньги, а именно потому, что он попытался идти поперек культурной и политической ситуации. А политическая и культурная ситуации ничем друг от друга не отличаются, они выглядят именно так, что люди разъединены.
Прощин: – И все-таки, может ли провинция быть понята как наличие разных культурных пространств или она до сих пор остается чем-то неопределенным?
Гаврилов: – Ну, смотрите. Та обида, которая постоянно транслируется любыми провинциальными активистами по отношению к столице, исходит из предположения, что в столице существует свой автономный культурный продукт, а в провинции он неосознан. При этом на самом деле в столице не существует никакого автономного культурного продукта, там существует достаточный объем культурного спроса. Скажем, когда мороженого сига, купленного за бесценок в какой-нибудь северной республике, привозят в Москву и не только дорого продают, но и богато подают с соусом и гарнирами, должны ли все остальные сиги в этот момент его ненавидеть и предполагать в нем выскочку, который оправдался столичным культуртрегером? Вопрос не в том, что один из них прожил другую жизнь в быту и кулинарии, а в том, что существует разный потребитель. И если мы посмотрим на ту культуру, что из провинции кажется столичной, то мы обнаружим, что ее генезис, конечно, лоскутный. Мы все еще на живую современную ситуацию накладываем логику XIX века, когда в центре живут белые люди, несущие культурную ценность, а на окраине живут папуасы, которых белые люди просвещают, несут свою центровую культуру. Но ведь этого больше нет. Не существует белых людей.
Прощин: – Десять лет назад в Нижнем Новгороде эта ситуация была четко видна. В город приехал проект, создатели которого организовывали лекции про видеоарт, рассказывали разное – вот, ребят, есть такой Энди Уорхол. Я был тогда моложе и знал меньше, но я думал: я знаю, кто такой Энди Уорхол и что такое видеоарт. А это был такой ликбез, даже не просвещенченство, именно ликбез.
Гаврилов: – Мне кажется, важно понять, что современная культура центра на самом деле сложена интервенциями окраины, а не наоборот. Модель «столица – поставщик культурного контента» не работает, она тупиковая.
Прощин: – Такой вопрос: когда мы говорим о русской прозе, – кажется, с поэзией дело все-таки получше обстоит, – есть ощущение, что она происходит где угодно, только не в России. А почему тогда русская проза так связана с большим количеством поощрительных проектов, премий и прочее? О прозаиках много говорят, а поэты имеют премию Андрея Белого и еще ряд каких-то, чьи названия можно вспоминать, но большинство из которых свою функцию уже давно не выполняют.
Гаврилов: – Давайте подумаем, что такое все эти поощрительные системы. Не существует никакого поставщика контента только в России, зато существует потребитель контента, сконцентрированный в индустриальных центрах страны. Поэтому часто мы путаем историю писателя и историю читателя. Строго говоря, где пишется русская проза – это история писателя, и пишется она в странных местах: лучшая книга прошлого года «Лавр» Евгения Водолазкина написана в Институте русской литературы, в Пушкинском доме, от которого давно перестали ждать чего-то хорошего. А лучшая книга предыдущего года «Синяя кровь» написана редактором издательского дома «Коммерсантъ» – человеком, который рерайтит чужие статьи и от которого мы точно никак не ждали великой русской литературы. Дальше начинается история читателей, то есть не только «где написано», но и «где прочитано». В России эта история совершенно отсутствует, и меня чем дальше, тем больше это тяготит. Ведь для того чтобы понять, почему это было влиятельно, мы должны понимать, среди кого это было влиятельно. И в этом смысле современный премиальный процесс вообще не является отражением генеративных процессов: это не процесс создания литературы, это процесс чтения. Мне очень симпатична премиальная теория, согласно которой премия – это вторичное вознаграждение. Существует книжный бизнес, он на своей территории, читатель почитывает, писатель пописывает… То, что он, кажется, в России закончился – это отдельная песенка.
Прощин: – В силу перехода к электронным формам?
Гаврилов: – Ну нет, в силу того что та советская инфраструктура, которую пытались приватизировать, оказалась неработоспособной, а никакой другой инфраструктуры уже не создать. В этом смысле книжный рынок мало чем отличается от энергосистем. Или дорог.
Прощин: – То есть, по сути, премии компенсируют недостатки книжного бизнеса?
Гаврилов: – Книжный бизнес – быстрая вещь, культура гораздо более медлительна. В тот момент, когда книжка уже сто раз кончилась на складе, писатель думает, что его никто не читал, издатель думает, зачем он издавал этого придурка, книготорговцы вовсе думать забыли об этой книге, – в этот момент читатели только начинают процесс обсуждения, выстраивания вокруг книги какого-то нового языка. И единственный инструмент, который есть у них в руках, – это инструмент премиальный. Они могут сказать: мы благодарны писателю М. за то, что он смог написать эту книжку, и нашу благодарность выражаем таким образом. Когда понятно, кто эти «мы», тогда премия работает хорошо, когда непонятно – плохо. В этом смысле премия Александра Невского за лучшее изображение сотрудников органов государственной безопасности в художественной литературе работает лучше, чем премия «Русский Букер», потому что там «мы» очень понятны, а здесь – довольно размыты.
Прощин: – Я что-то не слышал про премию Александра Невского.
Гаврилов: – Ну как же! Может быть, потому что вы не входите в те «мы», которые остро заинтересованы в изображении образа?
Прощин: – В таком случае зачем вообще нужны литературные премии? Чтобы читатель сориентировался в именах? Если эти премии сами себя концептуально не обеспечивают, то что они делают? Это может быть полезно для истории, и только.
Гаврилов: – Мы же не можем велеть с сегодняшнего дня никому больше не учреждать премии. Являются ли они значимым элементом современной культуры? Какие-то являются – какие-то нет. Являются те, в которых это «мы» – ясное и широкое понятие. Почему премия Андрея Белого была так влиятельна вначале и так неочевидна сегодня? Потому что раньше ее коллективный субъект был совершенно ясен, сегодня же он, мягко говоря, размыт.
Прощин: – Последний вопрос. Какие книжно-литературные проекты последних лет можно считать в России удавшимися?
Гаврилов: – Самый успешный проект такого рода – проект Дмитрия Кузьмина «Вавилон», сделанный с абсолютным нулем ресурсов и ставший навязчивой идеей трех поколений деятелей русской поэзии. Понятно, что все Союзы писателей, премиальные процессы и прочая хрень на палке – все вместе против него слабаки. Я не всегда и не во всем согласен с ним по поводу эстетического наполнения этого проекта, но это неважно.
Прощин: – А помимо Кузьмина?
Гаврилов: – Это, безусловно, премия «Дебют» – прекрасная и страшно своевременная идея Липскерова. Там была допущена одна очень серьезная ошибка: премия изменила своей ясности в очертании поля. «Дебют» – это премия-привратник. Но скучно 15 лет стоять у врат, отворять их для одних и затворять за другими, поэтому спонсоры потребовали, чтобы премия делала что-то еще. И это было ошибкой – согласиться на это.
Прощин: – Еще что-нибудь?
Гаврилов: – Премия «Большая книга», которую я оцениваю очень высоко, она, правильно осознав имеющиеся в культуре проблемы, теперь их решает. Для того чтобы обеспечить ясное высказывание коллективного субъекта, сперва начали создавать этот коллективный субъект. Вообще возможность существования некоторой площадки, которая обеспечивает иллюзию культурного диалога между олигархами и издателями толстых литературных журналов, – большое дело, серьезно. Никакие кино- или театральные премии и рядом с этим не стояли. Остальные проекты, которые мне видятся влиятельными, очень персональны. Например, существует такой редактор, как Елена Даниловна Шубина, чья работа в книгоиздании стоит дороже всей остальной работы с русской прозой. Сначала она была редактором в «Вагриусе», и там была лучшая русская литература, потом перешла в «АСТ», сейчас появилась ее собственная редакция, которая издает то, что просто нужно читать. Это отдельно стоящая литературная институция в лице отдельно взятого литературного человека. Посмотрите, какие разноформатные продукты мы называем: от «Большой книги» до отдельно взятого редактора в чистом поле. В сегодняшней русской культуре возможно все что угодно.