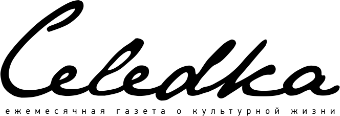"«Ничего в наших разговорах о смерти на самом деле не про смерть»"

– Вы начали заниматься исследованием паллиативной помощи. Почему вам это стало интересно?
– Это является логическим продолжением моей исследовательской траектории. На смерть можно посмотреть темпорально: что происходит после смерти и что происходит до момента смерти. Собственно, первый аспект связан с тем, что мы делаем непосредственно с мертвым телом после констатации факта смерти; второй – со временем, которое проходит до того, как человек признается мертвым (сейчас этот критерий – это смерть мозга). В рамках кандидатской диссертации я занимался временем после: изучал похоронную индустрию, работал в похоронной компании. Сейчас мне показалось логичным попытаться заняться тем, что происходит до, то есть с умиранием. С другой стороны, стоит признать, что современный мир вообще больше именно про умирание, а не про похороны. Главная причина: растущая продолжительность жизни увеличивается, подавляющее большинство людей (по оценкам, около 90 %), рожденных в последние 10–15 лет, будут умирать в очень пожилом возрасте (свыше 70) и от целого комплекса заболеваний, а не от одной болезни – тут и деменция, и сердечные заболевания. Траектория умирания в современном мире – это медленное и очень долгое угасание. Логично исследовать это. Ну и третий компонент моего интереса – небывалый рост внимания непосредственно к теме специализированного ухода за умирающими (в том числе в России) в последние пять лет. Наверное, еще восемь лет назад никто особо и не знал, что такое хоспис и как он работает. Сейчас, может, эта тема не так широко распространена в общем, но хотя бы в рамках какой-то фейсбучной интеллигенции каждый уважающий себя человек считает делом чести отправлять пожертвование на какой-нибудь хоспис.
– Уже есть какие-нибудь промежуточные результаты, которыми можно было бы поделиться?
– Промежуточные результаты, конечно, есть, и скоро они будут опубликованы в журнале Mortality – это англоязычное издание, целиком посвященное исследованию смерти и умирания. Я там уже публиковался со статьей про российский рынок ритуальных услуг, и сейчас выйдет моя первая статья о том, что называется hospice movement, то есть волонтерское хосписное движение.
– Вы начали с волонтеров, куда будете двигаться дальше?
– Я занимаюсь несколькими направлениями в рамках большого исследования. Первично меня интересовали волонтеры: что это за люди, каковы их жизненные траектории, почему эта тема стала важной для них. Ведь не очень понятно, почему мы жили-жили, а потом в какой-то момент всех вдруг заинтересовали смерть, умирающие. Существует объяснение, что есть Нюта Федермессер, и ее невероятными усилиями мы все неожиданно прозрели насчет важности этой темы. Что она ходила, стучала в каждый дом, писала посты в фейсбуке, все их читали и в какой-то момент поняли, как она права, и обратили внимание на тяжелобольных и умирающих людей. Это объяснение не очень интересное, хотя заслуживает внимания. В какой-то момент мне стало очевидно, что есть так называемое «первое поколение активистов» и есть поколение второе. Первое поколение – уже, я бы сказал, пожилые люди, пришедшие в благотворительность еще в 90-х, и это единичные проекты, они ими занимаются очень долго. Новая волна активистов пришла туда после политических протестов 2011–2012 годов, то есть на самом деле это такой своеобразный переход бывших политактивистов в сторону социальных проектов, что уже описано социологами, в том числе моими коллегами – например, Олегом Журавлевым. Этот переход из протестной политики в низовые проекты имеет массу примеров. Например, чуваки типа Максима Каца начали заниматься урбанизмом, кто-то начал заниматься велодорожками, проект Мити Алешковского «Такие Дела» и фонд «Нужна помощь» родились как раз на фоне протестов. Здесь есть своя понятная логика: уличным протестом ничего не добьешься – очевидно, что государственный аппарат будет всех нещадно давить своим репрессивным маховиком, поэтому надо менять страну снизу. Появилось некоторое движение людей, которые пошли заниматься реальными делами, как они сами это называют. В том числе часть из них начала создавать паллиативные, хосписные проекты.
Почему кто-то занялся лавочками, а кто-то паллиативкой и хосписами? Эти люди нашли в хосписной, паллиативной идеологии эквивалентную идеологию для себя. Оказалось, что то, за что они выступали на улицах, – прежде всего человечное отношение, права человека, достоинство, – это не тонкие политизированные требования, касающиеся сложных идеологических процессов, а очень практическое, общечеловеческое требование: уважайте нас. Оказалось, что паллиативная, хосписная идеология, которая занимается тяжелобольными умирающими людьми, на самом деле про то же: про автономность, достоинство и уважение, а вот государственная медицинская система очень «не по-человечески» относится к людям. Неожиданно оказалось, что есть А и Б, они сошлись, и это вылилось в хосписное движение.
Второй вопрос, который меня интересовал: каким образом происходит реализация этих идей. Любые новаторские проекты, какими бы они ни были и к какой бы области ни относились, всегда имеют некоторое противодействие со стороны того, что на языке социальной теории называется «структура». То есть как трендсеттеры сегодня меняют некоторые социальные устои и институты и можно ли вообще что-то изменить? Некоторые считают, что ничего никогда не меняется, но всем адекватным людям более или менее понятно, что, конечно, структурные изменения все-таки есть, вопрос: как они происходят? Меня волновало, как это реализуется в паллиативной помощи. С 2011-го прошло восемь лет, и первые результаты этой истории уже можно наблюдать. Уход за умирающими (как и вся социальная помощь в современной России, к слову) – это сложный процесс торга между волонтерами, которые пришли что-то делать, государством, которое неожиданно оказалось перед необходимостью встраивания этих волонтеров в новое социальное пространство, и рядовыми людьми, которым, как оказалось, вообще нужно объяснять, что такое достоинство, автономность и другие прикольные штуки, которыми полна паллиативная и хосписная идеология, и зачем все это нужно. Вот это и есть три группы акторов, и надо понять, что между ними происходит, как они взаимодействуют, какая у каждого из них логика. Государству удобно, что активисты теперь занимаются реальными делами и закрывают какие-то проблемные вещи: идут в конкретные больницы, конкретные хосписы, конкретные паллиативные отделения и решают там какие-то конкретные проблемы, при этом ничего не требуя. Так государство получает замену своей социальной функции, при этом очень подконтрольную. Оно обрезало любое финансирование, создав фонд президентских грантов, – теперь это единственный источник средств для всех НКО в России.
Другой вопрос в том, как объяснить людям, что им вообще это все нужно. Здесь воспользовались удобной, старой, понятной для всех логикой, в которой модель достоинства, автономности и всего прочего была упрощена до получения материальных благ: памперсов, кислородных концентраторов, матрасов и еще каких-то таких понятных вещей. По сути, волонтеры начали выполнять функцию носителей знания того, как получить с государства все эти материальные ништяки. Каким образом нужно пожаловаться, актуализировать, обрисовать проблему, чтобы государство начало что-то решать и как-то реагировать. Сложная современная идеология ухода за умирающими, с большим количеством переменных, в России оказалась сведена к простой функции: мы знаем, как заставить государство дать хоть что-то. Получить это «что-то» – станет «чуть-чуть» лучше. Кризис очевиден – главным образом, в перспективе масштабирования идеи хосписов на всю страну.
Сейчас я занимаюсь немножко другими вещами в этом аспекте: меня интересуют ценности и представление о справедливости, каких-то очень базовых начальных точках самих волонтеров и людей.

– C этим связана тема эвтаназии. Она вас интересует? Может ли эвтаназия вообще обсуждаться в России или у нас об этом даже речь не пойдет?
– Эвтаназия неразрывно связана с общей идеологемой «достойного умирания». Что такое эвтаназия как концепция? Это «хорошее умирание». В XIX веке появляется социальный и культурный запрос на «достоинство»: нужно что-то делать, чтобы человек умирал по-другому, в более человечных условиях. Эта история рождает в том числе вопросы медицинского ухода – то, что мы сейчас видим в хосписах, и в том числе вопрос эвтаназии. Об этом я пишу в книге, которая выйдет в феврале в издательстве Individuum. Когда мы говорим об эвтаназии, паллиативной помощи и хосписах, мы говорим не о каких-то прикладных вещах, мы на самом деле говорим о базовых политических вопросах: есть ли вообще у человека право распоряжаться собственной жизнью и собственной смертью, может ли он решать и где граница его субъектности. Дискуссия об эвтаназии – это дебаты для зрелого общества, которое готово к публичному обсуждению прежде всего очень важных политических вещей. У меня нет ощущения, что в России эти дебаты могут быть продуктивными, потому что под этим должна существовать какая-то общегражданская основа, ценность человеческой жизни.
С другой стороны, можно предположить, что инициирование подобных дебатов может быть полезно, потому что оно завуалирует обсуждение как раз тех вещей, на которые у нас наложено репрессивное табу: свободы, прав и границ субъекта – и вообще, что такое человек. В условиях государственного насилия, отсутствия судов и правоохранительной системы обсуждать эвтаназию смешно. У нас полиция может замучить человека до смерти в отделении, и ничего никому не будет – о каких правах идет речь? Поэтому-то мне кажется, что разговоры об эвтаназии преждевременны. Не потому, что эвтаназия ужасна, абсолютно нет; я даже в большей степени ее сторонник, чем противник; просто мне кажется, что это не то, что сейчас нужно государству.
– Расскажите о книге. Что там будет?
– Ее магистральная тема: «О чем мы на самом деле говорим, когда мы говорим о смерти». То есть мы говорим об эвтаназии – а о чем на самом деле? Мы говорим о бессмертии – а о чем на самом деле? Мы говорим о смерти в политике, некрополитике – о чем на самом деле? Мы говорим о зомби – что нам демонстрирует современный образ зомби на самом деле? Почему он актуален, почему он появился, почему мы столько смотрим всех этих «Ходячих мертвецов»? Я пытаюсь раскрыть эти вопросы и показать, что на самом деле мы говорим, конечно, о жизни и о базовых онтологических, политических, социальных, экономических вещах, которые нас очень сильно волнуют, через призму смерти. Ничего в наших разговорах о смерти на самом деле не про смерть, как бы парадоксально это ни звучало.
– Когда только начинали «Археологию русской смерти», вы говорили, что в России не развиты death studies, и, в принципе, тогда было гораздо меньше принято говорить о смерти. Это было большое табу. В последнее время, кажется, это табу пытаются на уровне крупных медиа снять. Как вы относитесь к тому, что смерть и осознанность в вопросе смерти стали более мейнстримной темой? И стали ли?
– Стали, конечно. Не буду паясничать, я абсолютно уверен, что это заслуга того, что делал я: журнал, книжка, все эти темы. Абсолютно уверен, что это некоторое следствие того, что делали мы с коллегами. Но приобретает ли это некоторое качество? На мой взгляд, недостаточное.
– Как можно будет понять, что качество стало достаточным?
– Наверное, это вопрос о выходе не через обсуждение и констатацию барьеров, а о попытке нахождения языков. То есть переливание воды из одного стакана в другой про табуированность и прочую херню – я вообще не понимаю, зачем это делать. Мое главное разочарование за прошедшие пять лет нашей деятельности: кроме «Археологии русской смерти», так и не появилось хороших академических исследований. С другой стороны, мы делаем конференцию в декабре этого года в Санкт-Петербурге, нам прислали 80 докладов, мы отобрали 30 из них, и большая часть действительно очень хорошего уровня. Есть ощущение, что по чуть-чуть это начинает каким-то образом двигаться. Мои коллеги, преподающие в университетах, говорят, что студенты приходят писать о смерти. Условно говоря, пять лет назад вообще никто не писал о смерти, никаких курсовых, ничего не было. Сейчас в год по два-три человека на каждом курсе пишут. Это всего десятки людей, они что-то публикуют, журнал покупается. Это долгий процесс, было бы глупо требовать, чтобы люди раз – и начали говорить, но хочется, чтобы качество разговора, рефлексии и критики все-таки повышалось.